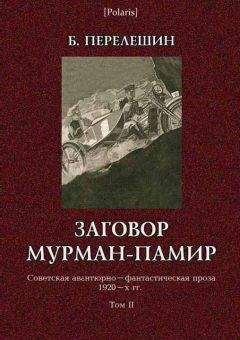— Пей, потей! Болезнь не любит тепло, сразу убежит.
Провалявшись для виду два дня в постели, Колян сказал:
— Где твои олени? Я буду пасти их.
— Пасутся они хорошо и без тебя. — Максим, которому было уже трудно подниматься лишний раз с пола, еле заметным движением пальца поманил парня к себе и, когда тот сел рядом с ним, проговорил тихо-тихо: — Мои олени должны убежать.
— Куда?
— Далеко-далеко, — снова зашептал Максим, — пока несут ноги. Ты угонишь их. Ты хочешь убежать. Я все знаю. Возьми с собой моих оленей.
Да, он заподозрил, что Колян уходил не ради охоты, и, когда усталый парень крепко заснул, старик понюхал дуло его ружья и понял по запаху, что оно стреляло в последний раз очень давно. Значит, Колян не стрелял, не охотился, а пробовал бежать.
Земляное полотно дороги упрямо ползло к северу. На него аккуратной белой лестницей укладывали шпалы. В скором времени ожидалась укладка рельсов и приход первого поезда. Он, этот поезд, иногда уже давал о себе знать гудками паровоза, но шел до смешного медленно, гудел совсем близко, а не показывался.
Нетерпеливые люди из оленеводов бегали к нему и потом рассказывали удивительные вещи: поезд состоит из большущей железной печки, которая бегает на колесах, к печке прицеплено несколько домов и мостов, тоже с колесами. Поезд сам подстилает под себя дорогу.
Максим с Коляном пытались понять это, но не одолели и пошли вслед за многими навстречу поезду. Когда повстречались с ним, он стоял на рельсах. С одного конца у него — платформы (мосты на колесах), нагруженные рельсами, с другого — паровоз (печь на колесах), изрыгавший гриву черного дыма, в середине — пассажирские вагоны с людьми (дома на колесах). Называли все это укладочным городком.
Вот печка-паровоз громко, железно крикнула, сильней задымила и начала двигать весь городок. Там, где кончался рельсовый путь, она остановилась. Тогда из вагонов вышли рабочие. Одни поправляли шпалы, где они лежали неладно, другие делали на шпалах небольшие запилы и затесы, третьи брали с платформы рельсы и укладывали их на шпалы, четвертые пришивали рельсы к шпалам железными костылями.
Когда это звено было готово, поезд передвинулся на него, и началась укладка следующего звена. Верно рассказывали люди, что первый поезд везет свою дорогу, сам подкладывает под себя рельсы.
В толпе, собравшейся поглядеть на поезд, Максим и Колян столкнулись с колдуном из Веселых озер.
— Вот и хорошо, — обрадовался Максим, — я давно ношу для тебя одно слово.
— Какое? — спросил колдун.
— Колян, сын Фомы, жив. Вот он, — и подтолкнул парня к колдуну. — Жив. А ты сказал: «Ушел по смертной дороге». Обманул Фому, выманил у Моти дорогого песца. Ты — обманщик, вор, негодяй!
— Все идут по смертной дороге, — проворчал колдун. — Надо правильно понимать мои слова.
— Надо правильно говорить их, а не путать.
Колдун старался исчезнуть в толпе, но Максим долго шел за ним и кричал:
— Пусть знает вся Лапландия: он — вор, жулик, негодяй! Обманул Фому. Ограбил Мотю.
Вцепившись в Максима обеими руками, Колян изо всех силенок тянул его назад и пугал:
— Колдун напустит на тебя болезнь, смерть. Нельзя ругать колдуна.
А Максим шумел:
— Мне можно. Я не боюсь.
И потом, когда колдун все-таки улизнул от них, Максим объяснил Коляну, почему не боится колдуна. Он, Максим, хоть и живет вместе с лопарями, одинаково с ними занимается оленеводством, охотой, рыбалкой, но не лопарь, а из другого народа, из коми. У него — свои боги, свои черти, колдуны. Своих он побаивается. А лопарские, надо думать, не имеют над ним никакой власти.
Лугова Сергея Петровича арестовали ночью. Провожать его не разрешили ни жене Катерине Павловне, ни дочери Саше. И они провожали его скрытно, прячась за углами, за деревьями. Арестованного увели в тюрьму. Тяжелые ворота захлопнулись с переворачивающим душу железным лязгом.
— Саша, беги домой, — шепнула дочери Катерина Павловна. — Беги одна, мне надо остаться.
— Зачем?
— Ну, поймаю кого-нибудь из тюремщиков, спрошу: за что взяли папу?
— А ты совсем-совсем не знаешь?
— Знаю одно: что наш папка не может сделать что-нибудь нечестное, подлое. И взяли его либо по ошибке, либо за правду.
— Разве можно в тюрьму — за правду? — изумилась Саша. Ей и дома и в гимназии настойчиво твердили, что надо быть всегда во всем правдивой, правда выше всего.
— Всяко бывает. Его, наверно, взяли за доброту. Он слишком добр.
— Разве бывает лишняя доброта? — снова изумилась Саша. И доброте ее учили так же настойчиво, как правдивости; ее считали такой же доблестью и никогда не говорили, что она может быть лишней, даже наказуемой.
— Папочка иногда добр во вред себе. Ну, беги домой, беги!
— Пойдем вместе. Одна я боюсь. Ты сама говорила, что это страшно, — начала плаксиво уговаривать Саша. — Спросишь завтра.
Сашу воспитывали строго. В первые годы, маленькую, обязательно укладывали спать ровно в восемь часов вечера. Затем с годами разрешили «гулять» до девяти, десяти, и наконец, до одиннадцати. За все четырнадцать лет жизни она ни разу не бывала за порогом своей квартиры поздней этого часа. И мать и отец — она учительница, он врач — считали, что засиживаться после одиннадцати вредно, а гулять по городу, кроме того, опасно.
— Не хнычь. Отхныкалась, — шепнула мать жестко, отрывисто. — Довольно корчить из себя ребеночка. Иди домой и ложись спать. Не проспи гимназию!
— Завтра я не пойду в нее.
— Обязательно пойдешь. Будешь ходить и учиться, как всегда. У нас все по-прежнему, ничего не случилось. — Катерина Павловна перекрестила Сашу и слегка толкнула в плечо: уходи.
— А если про папку спросят подружки, соседи, в гимназии…
— Говори: спрашивайте у него, а я — маленькая, ничего не знаю.
Саша ушла домой, но не легла спать, а начала приводить в порядок квартиру, разгромленную во время ареста. В ней ничего не взяли, но обыскивали долго: перевернули одежду, обувь, побросали на пол все книги, бумаги.
Прислуга сидела среди этого разгрома на своем бедном сундучке, тоже вывернутом начисто, и плакала.
— Не хнычь! — строго шепнула Саша. — Довольно, нахныкалась. Надо дело делать, убирать этот разгром.
— А можно? — спросила прислуга с тревогой.
— Не оставлять же так.
— А если придут взять что-нибудь.
— Пускай ищут. А наше дело убирать, прятать.
Катерина Павловна весь остаток ночи пробыла возле тюрьмы, прячась за углами домишек на другой стороне улицы. Как только раздавался лязг тюремных ворот, она старалась разглядеть, кто вышел, и, если знакомый, останавливала его. В том маленьком городке Катерина Павловна была широко известна: одним — как учительница, другим — как жена уважаемого доктора.
Остановила помощника начальника тюрьмы и двух надзирателей, уходивших с дежурства домой, перед всеми рыдала, ломала руки, умоляла сказать, за что схвачен муж. Она знала, что он связан с революционерами, но знала только в самых общих чертах, а все подробности: с кем связан, что делает для революции, как нарушает царские законы и порядки, Лугов держал в тайне. Знать, за что арестован, было важно Катерине Павловне не только ради мужа: может быть, кого-то о чем-то надо предупредить, от кого-то что-то скрыть, перепрятать или уничтожить какие-то бумаги…
Тюремщики отвечали все одинаково: что Лугов взят по распоряжению губернских властей, числится за ними и хлопотать надо там, в губернском городе. Здесь только зря бить обувь. И это было верно: мелкие уездные тюремщики ничего больше не знали. Но Катерина Павловна, не веря им и еще по пословице «Утопающий хватается за соломинку», продолжала молить всякие уездные власти и всяких других людей, которых считала влиятельными. И прекратила эти мучительные, бесплодные хлопоты только после того, как Сергея Петровича перевезли в губернский город.
Проводив его издали — свидания с ним не разрешили, — она тем же днем уехала вслед за партией арестованных на крестьянской телеге. Перед отъездом предупредила директора школы, что вынуждена оставить временно работу, уволила прислугу и сказала дочери:
— Сашенька, тебе придется пожить одной. Делай все сама: мы нищи. Прежде чем выпустить копеечку, подумай хорошенько: а нельзя ли удержать ее? И учись, учись изо всех сил.
Обнялись, посидели рядом, поплакали и расстались. Не сговариваясь, обе решили быть сильными, упорными, не распускать нюни, не показывать вида, что им трудно, горько. Отдайся слезам, горю, жалобам — и обратишься в тряпку, противную и себе и людям.
Ни друзей, ни знакомых не было в губернском городе, а самый дешевый номер в гостинице стоил рубль в сутки, и Катерина Павловна поселилась на постоялом дворе, где останавливался деревенский и всякий другой бедный люд. За пятачок в день она могла занимать голый топчан с деревянным подголовником в общей комнате и брать без меры воды, хоть сырой, хоть кипяченой. На другой пятачок покупала хлеба, сушеной воблы, щей из мослов и капусты. При такой жизни ее капиталу хватило бы на полгода.