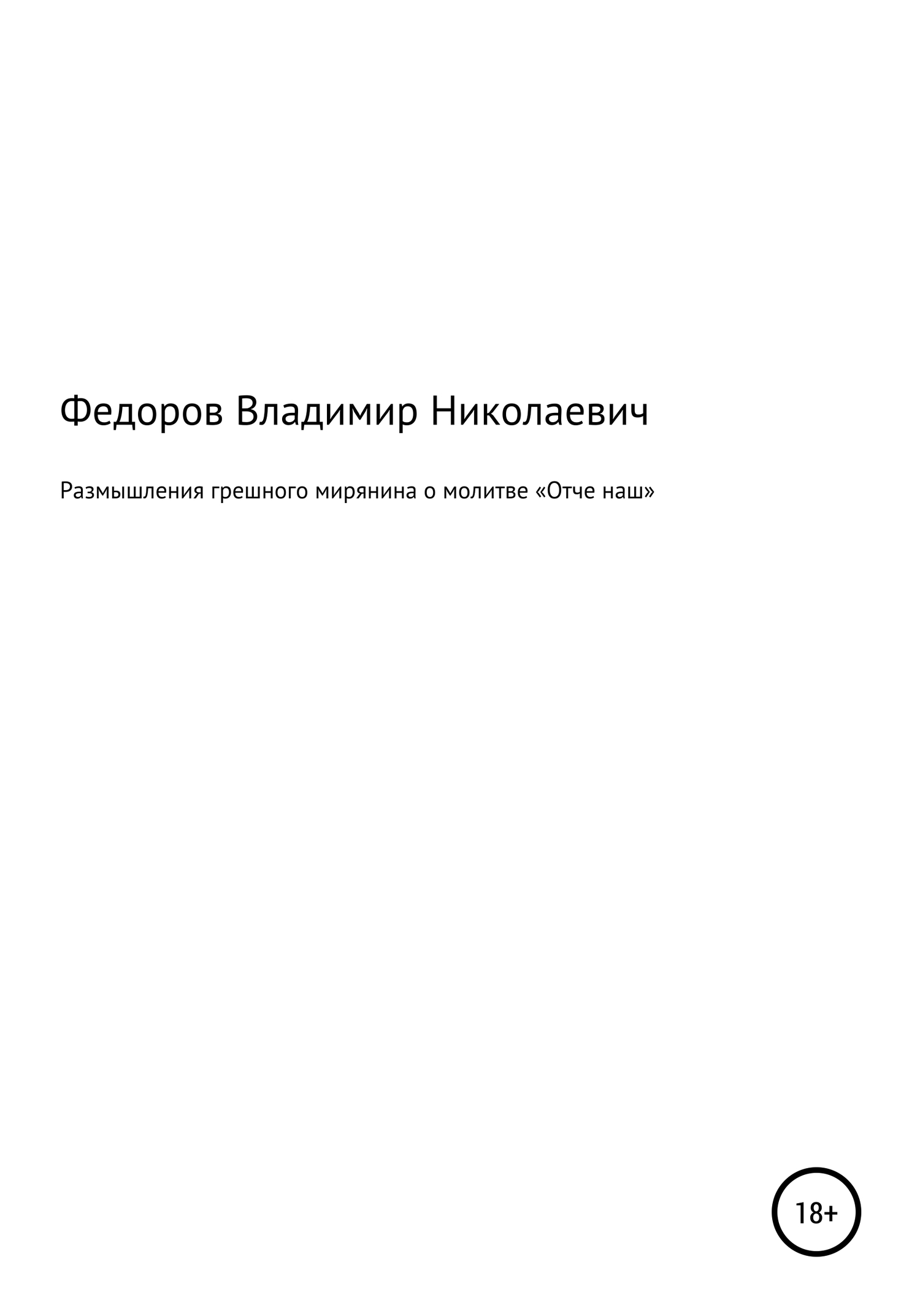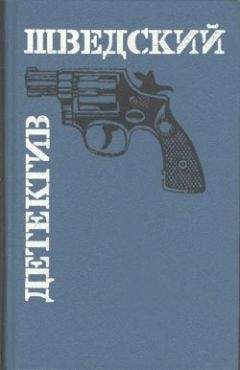Устинья Семеновна, кивая в сторону горницы.
— Где? У нас-то? — голос Аграфены слаб, приглушен. — Филарет это, земляк наш смоленский, из одной деревни с Федором. В соседях теперь живет, в городе Корпино, пресвитером там. В гости к нам часто наведывается, сорок километров-то не велико расстояние. Узнал про… Василька нашего… от кого-то… и приехал опять…
Аграфена снова всхлипывает, но Устинья Семеновна коротко останавливает ее:
— Погоди-ка, дай послушать…
И с любопытством ловит слова Филарета, доносящиеся из смежной комнаты. От отца Сергея Устинья Семеновна слышала нелестные отзывы о сектантах, вносящих смуту и путаницу в умы верующих, но годы приучили ее не доверять на слово никому, и потому Устинья Семеновна не считает грехом послушать рассуждения Филарета.
— Не гневайся на меня, Федор, — доносится из комнаты. — Но зачем обвинять в чем-то Лукерью? Бог всевидящ и всемогущ, разве не может быть так, что ему угодна жертва мальчика? Не менее вашего скорблю о сыне вашем, но вспомните, что ожидает его в царствии небесном, вдали от греховной суеты земной жизни… Счастлив он, освободившись от бренной плоти, отдав душу вседержителю нашему господу! Да все-то мы разве не о царствии небесном мечтаем, странники в этом захламленном мире? Сердцем, уставшим от грехов и забот, стремимся туда, — и все там будем, все, все! С именем Иисуса Христа, со святой верою в него! Ибо истинно рек он: «Я есмь дверь: кто войдет мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет». Так сказано в десятой главе евангелия от святого Иоанна, и это истинно так…
«Ловок же, шельма, — с легкой завистью думает Устинья Семеновна. — Наш-то батюшка едва ли так складно скажет. Видно, молод еще этот Филарет, коль так легко свою душу распаляет…»
— Ну, Аграфена, не дождусь, видать, я Лукерьи-то вашей, пойду, — поднимается она. — С утречка завтра забегу пораньше, может, дома она окажется…
И никто не знает, что Лушка давно дома. В сумерках, осторожно приоткрыв дверь, неприметно юркнула она на голбец и теперь лежит там, затаившись и жадно слушая Филарета, оправдывающего ее перед отцом. Много раз слезы подступали к глазам — в те минуты, когда Филарет говорил о жестокой доле опечаленного и оттолкнутого людьми, призывал не бросать того, кто попадет в беду, а любить его, как брата, ибо в любви к страдающему возрождается для бога сердце человека.
В щелку между досками перегородки Лушка разглядывает Филарета. Высокий и стройный, в ладном новом коричневом костюме. Продолговатое, худощавое, с прямым, тонким носом лицо его напоминает ей чеховского героя, которого видела недавно в кино. А черные густые волосы мелко вьются, как у заезжего негра-циркача.
«Какой красивый», — с непонятной грустью сознается себе Лушка и снова слушает рассуждения расхаживающего по освещенной комнате Филарета.
Засыпает она незаметно, под разговор мужчин, и во сне ей привиделся… бог. Да, да, он подзывает ее с белого облака легким движением руки, и она, поднятая неведомой силой, устремляется к нему, легкая, ликующая. И уже перед самым облаком неожиданно узнает в лице бога знакомые черты Филарета: те же вьющиеся, как у негра в цирке, черные волосы, мягкий, притягивающий взгляд. Она хочет замедлить движение к облаку и даже вскрикивает: «Ведь это Филарет!» — но тут же радостно вспоминает: «Он же красивый», и снова устремляется вперед, к помахивающему ей рукой Филарету-богу… А где-то внизу, на земле, стоит и грустно смотрит на нее Степан Игнашов. Она никак не может укрыться от его преследующего взгляда и, не выдержав, негодующе кричит к земле, Степану: «Не смотри так! Я хочу быть вдвоем с богом, только с ним! Я знаю — ты строгий, вечно за что-нибудь мне выговариваешь: не так да не этак, ты… даже не поцеловал меня ни разу! Бог это видел, он знает, да-да, — знает, знает!»
И тут же вдруг изумленно замирает: там, вдали, стоит у края озера не Степан, а братишка Василек! Он силится оторваться от охвативших его вздыбившихся змеистых волн, протягивает руки к Лушке, безмолвно зовет ее тоскующим взглядом, но озеро все глубже вбирает его пенистой волной. От страха Лушка дико вскрикивает, чувствуя, как сама проваливается в какую-то мутную бездну…
Аграфена слышит вскрик с голбца, встает с койки и, пошатываясь, идет через комнату. Лушка спит, уткнувшись лицом в дощатую перегородку. Лоб у нее горячий и влажный.
«И она мучается… — шевелится острая жалость в сердце Аграфены. — И за что, за что такое, господи!»
Положив под голову спящей дочери свернутый кусок старой кошмы, Аграфена плетется к своей койке. Из комнаты, где спят муж и Филарет, слышится бодрый, с присвистом храп. Взгляд Аграфены падает туда, где обычно с ребятишками спал Василек. Острая боль шилом входит в сердце матери, и, чтобы не вскрикнуть, она падает на койку, уткнувшись лицом в подушку.
— Господи, за что ты покарал меня? — тяжко выдыхает Аграфена, захлебываясь в рыданиях.
И этот всхлип будит чутко дремавшего Филарета. Он настороженно приподымает голову, прислушивается, но, поняв, в чем дело, облегченно вздыхает. Плачет хозяйка — дело обычное. Ему же пригрезилось, что кто-то посторонний вошел в дом. Очень не ждет Филарет чужих в этой квартире. Особенно — милицию, от допросов которой тайно ушел, скрывшись из родного города. Виновата в этом одна из сестер во Христе — полусумасшедшая Валентина, которой он, пресвитер общины, грубо отказал в помощи. И она напомнила ему о том, что случилось нынешней зимой в ее доме.
«Дрянь такая, — рассердился Филарет, беспокойно ворочаясь. — Знала, куда идти — в редакцию газеты… Как и ее сынок Алешка…»
И воспоминания ожили в памяти в том порядке, как о них писала городская газета.
Да, было именно так.
Холодная, синеватая белизна снега на окраине шахтерского поселка особенно отчетлива. Сумрачный свет падает на заснеженную степь за домами. Маленький Алешка грустно оглядывается на дорогу, вспомнив окликнувшего его Мишку, с которым вместе учатся во втором классе. Но Валентина нетерпеливо дергает его за руку:
— Шагай бодрей! Опоздаем…
И он послушно шагает. Мелко хрустит стылый снег под ногами, и этот скрип неприятен Алешке. Он знает, куда идут с матерью — в молельный дом, к дяде Филарету. Тот чем-то не нравится Алешке, несмотря на то, что все здешние мальчишки знают: дядя много денег тратит на угощения.
Но Алешка и еще четверо школьников — совсем другое дело. Их Филарет перестал одаривать дорогими конфетами, хотя все пятеро с матерями часто теперь ходят на моления. Видно, нравятся Филарету только чужие мальчишки, — решил недавно с грустным вздохом Алешка, и потому сейчас шагает неохотно, хмуро поглядывая на темные приближающиеся окна Филаретова