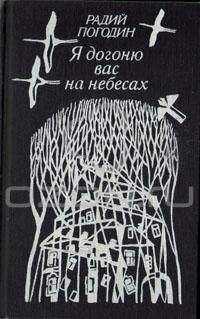Минут через пятнадцать мы втроем пришли в штаб: я, Егор и Писатель Пе. Взвод управления знал нас всех как облупленных. Мы объяснили, что нам к генералу, — он вызывал.
— Генерал угрюм. Ваш Сивашкин на него тоску нагнал классикой. Вы так втроем и пойдете?
— Как вызывал, так и пойдем.
Штаб бригады помещался в подвале, сухом и чистом, хорошо освещенном, оборудованном под бомбоубежище.
У задней стены на скамье сидел наш Анатолий Сивашкин с аккордеоном, играл «Полонез» Огинского. Очень виртуозно. И очень грустно — до слез. Он всегда утверждал, что «Полонезом» Огинского можно даже из кирпича слезу выжать.
За столом сидели два генерала. Один наш — генерал-майор, другой — чужой генерал-лейтенант. С ними начальник штаба. Кофе пили.
Я подошел к Анатолию, а он, почувствовав, за чем я иду, сбросил ремень с плеча, привстал и протянул мне аккордеон, причем глаза его готовы были пролиться мне в ладони. Я передал аккордеон Егору. Тот пошел к выходу, но там дорогу ему заслонил капитан-стажер. Егор оттолкнул капитана плечом вежливо и передал аккордеон Писателю Пе. Писатель Пе заскакал вверх по лестнице через две ступеньки. Автоматчики сгрудились на лестнице, загородив дорогу капитану-стажеру. К тому же Егор удержал его за руку со словами:
— Товарищ капитан, я хочу извиниться — я вас нечаянно плечом толкнул. Прошу простить. Давайте я вас почищу. Слегка испачкал… Я быстро…
Все это происходило от меня сбоку. Я видел боковым зрением. А прямо передо мной медленно вставал из-за стола генерал-лейтенант. Лицо у него было властное, победное, под маршала Жукова.
Я не дал ему и рта открыть, прокричал, вытянувшись в струну, по-уставному:
— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться к товарищу генерал-майору!
Генерал-лейтенант то ли взял себя в руки, то ли вспомнил, что он тут стажер.
— Разрешаю, — сказал неласково.
— Товарищ генерал-майор, — проорал я, — разрешите забрать сержанта Сивашкина на задание по разведке минирования мостов в районе Шпандау!
— Разрешаю, — сказал наш генерал. — Что это ты тут устроил с аккордеоном?
И я уже тихим голосом, словно делюсь тайной, сказал:
— Извините — секрет. В роте разучивают музыкальный триумф к нашему святому Дню Победы. Торопятся. Говорят, Гитлер на подводной лодке в Аргентину удрал. Опустело логово.
— Забирай своего меланхолика — и марш! — скомандовал наш генерал и отвернулся в сторону, чтобы гость не прочел чего-то в его глазах. А начальник штаба, тот в пол смотрел.
Я отдал честь и, грохоча подошвами, пошел из подвала.
На рожах автоматчиков, радистов и телефонистов, даже на лицах их командиров я различил смущение, происходящее от удовольствия, только Сивашкин был красен, или ал, как мак.
На лестнице капитан-стажер сказал мне:
— Хам! Клоун! Колун!
Я откозырял ему.
— Разрешите с вами попрощаться, товарищ капитан-стажер.
Младший сержант Анатолий Сивашкин лопотал мне «спасибо». В машине он полез за аккордеоном, чтобы обтереть его фланелью и укутать в байковое одеяло. Аккордеона не было.
— Отдайте гармонь, — сказал он.
— А нету, — ответили ему. — Ты иди еще какую-нибудь дарственную подпиши.
— Подари стажеру мой парабеллум, — сказал Егор и вытащил из-за пазухи пистолет. — Смотри, какой страшненький. «Товарищу генералу-стажеру на память от Толика. С приветом». И подпись.
— Вы бы на моем месте тоже подписались бы. Когда генерал-лейтенант тебе улыбается. А у капитана глаза пустые, как будто из них все вылили. Подписали бы! — закричал Сивашкин.
— Я — нет, — сказал Егор. — Хватил бы аккордеоном об пол — и на губу. А может, и дальше…
— Я бы тоже не подписал, — заявил Писатель Пе. — Правда, аккордеон не разбил бы — жалко.
— А я бы — хрен его знает, — сказал Паша Сливуха. — Наверно бы, подписал, я генералов боюсь.
— То-то и оно, — поддержал Сливуху Шаляпин. — Я бы тоже подписал. Мне биография не позволяет вскидываться. Но все равно ты, Толька, сволочь.
— Отдайте гармонь! — завопил Сивашкин. — Сами вы гады. — Он вдруг сник и сказал тихо: — А в глазах у этого генерала-стажера что-то такое, на скулящей ноте, как у того генерала-аншефа в Потсдаме.
Мы представили старика-аншефа в веснушках, в растянутой вислой кофте, с сухими ручонками, когда-то державшими меч нации. Ему бы не перед нами капитулировать, а перед генералом-стажером, со щелканьем каблуков, с подписанием протоколов на мелованной бумаге с золотым обрезом, с дегустацией кофе, слушанием органа и при свечах. А потом спеть дуэтом.
— Отдайте гармонь, гады! — опять завопил Сивашкин. — Ну отдайте гармонь…
Шаляпин ему подсказал великодушно:
— Толя, извинись за «гадов» и попроси как следует, с осознанием своей подлой вины. Эх, «Ла Палома», «Ла Палома»…
Аккордеон был «Хонер», но мы иногда называли его «Ла Палома» — в честь того незабвенного красавца, на который Сивашкин без нашего ведома выменял нынешнюю свою гармонь и очень гордился своей удачей.
Была у нас в экипаже плохонькая хромка, мы ее выменяли у пехотинца еще в России за котелок муки, пшеничной несеяной. Правда, и машина у нас была тоже другая — канадский гусеничный бронетранспортер, вооруженный противотанковым ружьем. Имел тот бронетранспортер такое неприятное свойство вертеться волчком на поворотах, неумолимо сползая в кювет. Особенно быстро вращался он на мокром асфальте, навозе и гололедице. Он так и слетел в реку, проломив перила. Утонуло целомудренное противотанковое ружье, а вот хромка не утонула. И когда мы получили новую американскую замечательную машину вместе с сопровождающим, а именно младшим сержантом Сивашкиным, мы отметили это событие громкой истерикой нашей красноротой хромки. Младший сержант Сивашкин нашу игру застенчиво, но смело пресек, сказав:
— Так нельзя. Оно — инструмент. — Взял хромку в руки, склонился над ней, и она запела. И мы услышали, что наша хромка, издававшая в наших руках исключительно коровьи и козьи звуки, действительно инструмент задушевный.
Поиграв на гармошке минут пятнадцать, простодушно хитрый гармонист Анатолий Сивашкин сказал:
— Если бы аккордеон, тогда бы я дал…
Мысль об аккордеоне разрослась в каждом из нас в мечту. А у Сивашкина — в черную меланхолию. Мы ему саксофон приносили, банджо, скрипку, гитару — он на всем этом играл, но по-настоящему он владел только аккордеоном. В этом мы убедились, выбив из какой-то усадьбы, напоминающей небольшой Гатчинский дворец, подразделение немцев-зенитчиков.
Особняк мы осмотрели — факт. В нем было много зеркал в темных рамах и мало мебели — тоже темной, почти черной.
На кухне хоть шаром покати. Даже стулья хозяин-барин куда-то эвакуировал.
И вот в этом поместье, когда мы раздумывали, как быстрее и лучше выбраться на соединение с бригадой, а Сивашкин Анатолий ласкал краснощекую хромку, к нам подошел поляк и спросил: не желают ли паны аккордеон люксус? Поляк так громко зачмокал и так круто закатил глаза, что мы, конечно, сознались: мол, не только желаем, но даже мечтаем.
— То, панове, зараз немного буйки.
— А без буйки нельзя? — спросили мы.
— Без буйки зараз не можно. Една курва пушку захапала. Буде стрелить вшистко.
— Фашист?
— Не. Коллаборационист.
Этот коллаборационист нас очень заинтересовал. Может быть, больше аккордеона.
Поляк повел нас по красивой аллейке густого стриженого кустарника. В конце аллейки он попросил нас осторожно высунуться и посмотреть перед собой.
Писатель Пе тут же брякнулся на землю и сквозь безлистый снизу кустарник разглядел пушечку.
Мы тоже легли.
Пушечка была зенитная, сухонькая, как насекомое. Стояла она по ту сторону утрамбованной площадки, у такой же стенки кустов. И что самое для нас любопытное — пушечка дергалась, как паралитик, поворачивалась и опускала острый ствол в нашем направлении. Видимо, осваивал ее человек решительный, но сугубо штатский, может даже портной.
Из-за пушечки послышался крик: мол, если ты, курва Казик, привел русских жолнежей, то он (наводчик) не побоится ни черта, ни Матки Боски, ни русских жолнежей и вобьет каждому в дупу фугас, а курве Казику — два. Пушчонка для подтверждения пошла палить, срубая ветки у нас над головами.
— Аккордеон там, — сказал Казик. — Этот курва Збышек псих и вор. Немного буйки, Панове. Стреляйте с пистолей. Бросайте гранаты…
Впереди по дорожке стояла каменная беседка, ребята поползли к ней, мы же с Писателем Пе вернулись к особняку, вышли на параллельную аллейку и подошли к пушечке.
С той стороны поляк Казик кричал, что русские жолнежи пошли за минометом и от Збышека сейчас останутся только уши — маме на память.
На сиденье пушчонки скорчился горбатый парень, небритый, болезненный и злой. Когда мы слишком самоуверенно и оттого беспечно попросили его поднять руки кверху, он вмиг развернул пушечку и нажал на гашетку. Но мы уже катились по утрамбованной земле и были уже совсем рядом с его насекомой пушечкой, иначе он выпотрошил бы нас, как петушков.