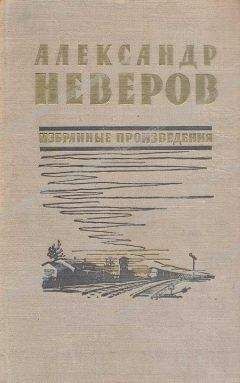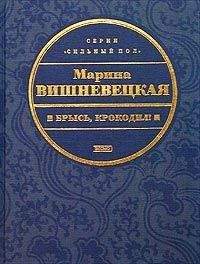— В какой книге написано?
— Ты, тятя, неграмотный.
— Значит, не веруешь в храм божий?
— Хэ! Это же религиозный театр представлений. Хочешь, я сам разыграю любую роль?
Выпил Михаила для смелости, подошел к сыну вплотную.
— Тебя кто на свет произвел?
— Природа.
— Сказывай, какая природа!
— Не лезь, тятька, ушибу!
— А ты имеешь право отца родного ударить?
— Мать не могу, тебя без всякого права накрою, если с кулаками полезешь.
— Сукин ты сын!
Андрон его за руку:
— Шалишь, папаша, этого мы не позволим. Мама, дай поперешник, свяжу я его.
Встретил Михаила Лизара на улице:
— Плохо мое дело, кум Лизар!
— Что произошло?
— Бога нет, церкви нет, отец с матерью — обезьяны.
— Женить надо парня — негожа.
Андрон с Прохоровой в холодке под сараем. Он шпорой играет, она платочком лицо закрывает словам Андроновым улыбается. Подходит Лизар с разговорами вразумительными:
— Здравствуй, Андрон Михайлыч! Митингу, что ли, разводишь?
— О жизни говорю, дядя Лизар.
— Дело хорошее. В каком смысле понимаешь нашу жизнь?
— Недоволен я сильно порядками: отношенья революционного нет.
Лизар и голову набок:
— Умный ты человек, Андрон Михайлыч, а все-таки лучше тебе жениться. На супружескую линию встать.
— Почему лучше?
— Обязательно лучше. Я так понимаю теперь: в супружеской линии практика большая ко всяким делам. Аннушка, отойди в сторону, мы потолкуем по обоюдному делу.
Хочет Прохорова встать. Андрон ее за руку:
— Не стесняйся! Современная женщина должна участвовать во всех рассуждениях.
Лизар улыбается:
— Ты, Андрон Михайлыч, не смущай ее.
— Чем смущаю?
— Траву сеешь неподходящую. Разве можно в женском сословье слушать такие слова? Баба она молодая, удержаться трудно…
— Чудак ты, дядя Лизар!
— В каком смысле?
— Понимай в единственном смысле. Я же не признаю церковного брака и женщину всякую считаю за товарища.
Словно из бани вышел Лизар.
Обернется на улице — плюнет.
Михаила из окошка спрашивает:
— Женил моего сына?
— Женил.
День идет.
Неделя идет.
Андрон испортил лошадь.
Был мерин как мерин. Луговину вытаптывал сонными ногами, обнюхивал кобылиц, оттопыривая губы. Галки шерсть таскали со спины у него, мухи брюхо обкусывали.
Мерин как мерин.
Хвост в репьях, уши на бок.
Теперь бежит — земля дрожит.
Скачет Андрон по улице — черт не черт, казак не казак.
Цыпленок — под ноги, цыпленка давит.
Гусь заглядится — гуся подомнет.
Увидит старуха из окошка — перекрестится.
Выйдет девка за ворота — позабудет, куда шла.
Огнем горит рубаха Андронова.
Ногой тряхнет — звон.
Шапку запрокинет — таких и в деревне никогда не было.
Болит девичье сердце — волнуется.
Болит и Михайлино сердце — жалко мерина.
Что делать с Андроном?
Вышел Михаила на двор, подивился.
— Чья такая лошадь забежала?
Хвост в лентах, грива в лентах, на лбу цветок бумажный красный.
— Эх, сукин сын!
Хотел выдергать украшения — Андрон перед ним.
— Тятя, не балвай!
Грустно стало Михаиле.
— Ты зачем лошадь конфузишь?
— Ты, тятя, неграмотный.
Сына ломать — силы нет. Себя ломать — от людей стыдно. Сидит Михаила на завалинке, голова — мешок с песком; книзу тянет, книзу.
Воробей чирикает.
Муха гудит.
Петух курицу зерном угощает, громко выговаривает:
— Ко-ко-ко!
Ни у кого нет печали человеческой. И червяк думает о жизни, когда под ногами ползает, а Михайлино сердце — кувшин, налитый горячей водой. Жалко мерина конфузить, жалко и характер ломать. Всю жизнь свою жалко. И Андрона жалко. Зачем шапка со звездой? Зачем рубаха красная? Вот она, печаль человеческая. Никто ничего не знает, а Михаила знает меньше всех.
Собрались три старика самых старых: Сенин, Марконин, Потугин. Выставили три бороды, как три копья, судят Андрона — озорника, непочетчика, богоотступника. Говорят слова судейские с передышками, глухо палочками постукивают.
— Сказывай, Михаила, о сыне по совести!
Перед друзьями Михаила, как маленький.
— Чего скажу незнамо, неведомо?
— Знаешь.
— Много знаю — ничего не знаю.
— Негожа.
Потугин — главный судья.
Взял палочку в правую руку, написал букву неведомую около левой ноги.
— Вот зачем мы пришли — не ругаться. По-хорошему пришли говорить. Живет твой сын два месяца, грехов наделал два мешка. Парни наши не слушаются, девки не повинуются. Спать ложатся невенчанные, встают — богу не молятся. Где такой закон?
Отвечает Сенин со вздохом:
— При мне такого не было.
И Марконин отвечает со вздохом:
— Такой закон у туркав!
Перед судьями Михаила, как маленький.
— Что пришли судить меня? Я и сам этому делу не рад. Надел рубаху красную — не спрашивал. Прицепил звезду — не советовался. Видите, как блоха под ногтем сижу.
— А когда уедет отсюда?
— Здесь хочет жить.
— Здесь?
— Здесь.
Смолкли три судьи, головы низко склонили.
Вот она, печаль человеческая.
Под горой три дерева, грозой опаленные.
Не шумят листья на них, не радуют.
Нет на деревьях зеленя зеленеющей.
Нет на деревьях солнца играющего.
Мрачно стоят три дерева, грозой опаленные.
Погнулись три судьи, словами напуганные:
— Здесь будет жить!
Девки будут спать невенчанными, сыновья перестанут слушаться. Лошадям в хвосты натыкают тесемок красных, заплетут гривы по-свадебному. Скакать будут, беса окаянного радовать.
Растет трава крапива — кому нужна?
Растет печаль мужицкая — кому нужна?
Поднялись уходить старики — на пороге Андрон из сеней.
— Стой, Маркел!
— Погодь, Кузьма!
Глядят на озорного в трое глаз, колют непутевого в три бороды. Не видят лица Андронова, видят рубаху красную. Штаны с пузырями, ноги с колокольчиками. И обликом не мужик. На войну пошел — горе отцу с матерью, и с войны пришел — горе отцу с матерью. Лучше бы совсем убили такого.
Умылся Андрон, вынул зеркало из сундука,
— Погибший человек!
Ухватился руками за брус и давай вертеться: вверх головой, вниз головой, того гляди полати переломятся.
— Как можно человеку испортиться — батюшки!
Наигрался Андрон, улыбается старикам:
— А вот вы не умеете!
Хотел Потугин сказать слово осудительное — входит Прохорова в вышитой кофте, с кружевами. Полушалок с разводами, юбка с оборками.
— Здравствуйте!
Андрон ее за руку:
— Присаживайся, пожалуйста.
Колокольчики на ногах!
— Д-динь!
А Прохорова сама себя не помнит от радости.
Платочком беленьким утирается.
Жарко.
Плюнул Потугин:
— Анка, неужто не стыдно тебе?
— Ну, стыдно! Что это?
— Маленько негожа: свой мужик в отлучке находится.
— Свой-то, дедушка, не сладкай.
Лошадь путают железом.
Жеребят привязывают на веревку.
Чем удержишь бабу, у которой шайтан на уме?
Нет такого железа.
Нет и слова такого.
Поднялись старики, глухо палочками постукивают.
— Айдате, больше делов не будет.
Идут гуськом, нагибаются.
В сени — молча, из сеней — молча.
На улице остановились.
— Здесь хочет жить!
Смирная баба у Ваньчи. Шестой год замужем ходит — поперек никогда не говорила. Крикнет Ваньча в сердцах — ее не слыхать. Ударит под горячую руку — она хоть бы слово.
Хорошая баба.
Такую и надо.
Жили и жили — никому дела нет.
Вдруг пошло…
Пришел Ваньча домой в большом расстройстве — Лукерьи нет. На двор вышел — нет. На улицу — нет… Не собаки ли съели? Вот как рассердился Ваньча, сморщился весь. Сел на кровать — бабой пахнет от толстого дерюжинного одеяла.
А бабы нет.
Ткнулся носом в наволоку пунцовую — и от наволоки бабой пахнет.
А бабы нет.
— Ушла, черт!
Ночь в окна лезет, а Лукерья нейдет. Куры заснули — нейдет.
Шибко рассердился Ваньча. То брюхом ерзает по дерюженному одеялу, то на спину повернется.
— Ушла, черт!
Ушла и ушла. Кому какое дело? И Ваньче бы наплевать, да расстройство большое. Придется лошадь на дворе ударить, чтобы сердце опорожнить.
Вскочил с кровати — колесом по избе, колесом. Выбежал в сени — Лукерья навстречу.
— Где тебя нечистые носят?
Нет, это не баба. Не та баба, которая ходит замужем шестой год. И голос не бабий. Не той бабы голос, которая никогда поперек не говорила.
— Ты, Иван, не кричи на меня!
Вся изба вывернулась наизнанку от такого голоса и половицы под ногами закачались. Замахнулся Ваньча ударить Лукерью — она его за руку.