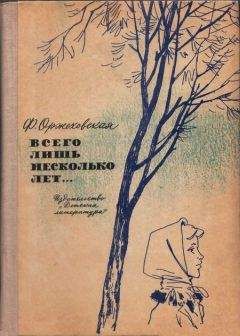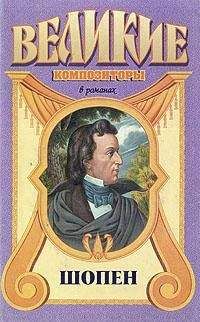Она уже кончила свою статью, но держит в руках журнал: на столе нет места.
Маша ждет. Отдышавшись, Розалия Осиповна продолжает:
— Что было! Приносят ребенка — обратите внимание — в первый раз. Она его берет, смотрит. Ей говорят: «Чего ты ждешь, он голодный». А она: «Это не мой, вы мне чужого дали». На номерок даже не посмотрела. Проверили: так и есть — нянечка перепутала.
Поля с ужасом смотрит на Миру.
— Да, — говорит художница, — это инстинкт.
Но Варвара не согласна. Младенцев путают-это точно. Но чтобы заметить, когда все они на одно лицо, — чепуха! Так и живут с подмененными.
— И как вы, Варя, не похожи на вашу сестру! — с сокрушением говорит Поля. — Небо и земля!
Жизнелюбие этих женщин, живущих на чердаке, раздражает Варвару. Акушерка больная; Поля совсем не знает жизни и даже молоко кипятит под наблюдением матери; денег никогда нет. И все им хорошо, все чудно. Муж Поли в армии, и вот уже второй месяц нет от него писем. Но даже молчание зятя не действует на блаженную:
— Это скорее хороший знак: молчит — значит, скоро вернется.
«Ну, а если бы в самом деле подменили? — в страхе думает Маша. — У меня хоть глаза, как у мамы. А если слишком поздно узнают?»
Вера Васильевна возвращается возбужденная.
— Какой чад! — морщится она. — Ну вот, узнала: не будут ломать, ничего еще не известно.
Варя бормочет в уголке:
— За что купила, за то и продаю.
— Вы только не откладывайте свадьбу, — просит Поля, узнав, в чем дело. — Я, если хотите знать, для вашего праздника уже платье сшила.
— Ага! — неожиданно и очень серьезно подтверждает двухлетняя Мира.
И все женщины начинают смеяться.
Уже выходя из кухни, Маша почти натыкается на сына художницы, Виктора. Тряхнув чубом, чтобы иметь повод красиво закинуть назад голову, он спрашивает свистящим шепотом:
— Что она опять наделала? Дышать нечем!
— Сам можешь кашу сварить, не маленький!
— Но ты же знаешь, какова ситуация!
Ситуация действительно сложная. Но тут сама Евгения Андреевна выходит в переднюю.
— Это ты, Витенька? Из обеда ничего не вышло.
— Что и требовалось доказать.
— Ничего. Выпьешь молока с ватрушкой.
— Когда-нибудь ты спалишь дом, — говорит Виктор.
— Я думаю, до этого не дойдет.
— Ты невозможна. Что с тобой делать?
— Одно из двух: или помогай мне, или уж не мешай.
— Ты что же, хочешь, чтобы я торчал на кухне?
— В остальном, Витенька, я и сама справлюсь.
И Евгения Андреевна идет дальше.
— Вот так, Маша, нет у нас контакта…
Хорошо, что он не видал напоминания Пищеблока. Собственно, из-за Виктора Маша и сорвала записку со стены.
Рядом с кухней — маленькая дверь, у которой Маша замедляет шаги. Из комнаты слышен кашель. Не зайти ли справиться о здоровье? Семен Алексеевич ласково скажет: «Входи, Маша, входи», а Ольга Петровна слабо улыбнется из своего угла. Но Маша боится этой комнаты, боится улыбки, при виде которой хочется заплакать, а главное — чувствует, что о здоровье спрашивать не надо.
В темной комнате преподаватель средней школы Битюгов готовится к докладу. Во флигеле два учителя: пожилой — Шариков и молодой — Битюгов. Оба пользуются уважением, но к Битюгову чаще обращаются за советом: ему не мешает старомодное воспитание.
Он сидит, согнувшись, за письменным столом, а его жена приютилась неподалеку на диванчике и шьет. На плечах у нее шерстяной платок, с которым она не расстается и летом. Время от времени Битюгов отрывается от своей работы.
— Ну, как тебе, милая?
— Ничего, хорошо.
Комната Битюговых самая маленькая во флигеле да еще и сырая. Но Семен Алексеевич не замечает недостатков комнаты: его больше интересует улица, куда выходит его окно, а еще больше — город, страна, весь мир. Там происходят удивительные вещи, и только их видит Битюгов.
— Входи, Маша, входи.
Она здоровается и торопливо прибавляет:
— А Ольга Петровна хорошо выглядит.
— Да, она молодец, — отвечает Битюгов и сразу меняет разговор: — А дом-то совсем готов.
Новый дом виден сбоку от их окна.
— До чего изменилась улица! — Битюгов встает и подходит к окну. — Прямо узнать нельзя.
— Да? — спрашивает Маша.
— Вон там, где теперь столовая, — видишь? — раньше был кабак. Вечно здесь толпились женщины с плачущими детьми. У церкви на паперти — нищие. И там же просил милостыню восьмилетний Сеня Битюгов, поводырь слепого старца.
— Вы?
— Я. Прихожане оделяли нас медлительно, с важностью — пусть все видят: и бог, и люди… Это было в девятьсот пятнадцатом.
— Я тогда еще не родилась, — говорит Ольга Петровна.
— Конечно, ты не можешь помнить. Да ты и не здесь родилась.
— В Чернигове, Машенька, я у папы жила в таком славном домике. Целый день солнце, а перед домом — палисадничек. Я там четыре года не была… с тех пор, как вышла замуж.
— Палисадничек, — бормочет Битюгов, — скамеечки… А на скамеечках — кумушки.
Маша не знает, на чью сторону стать.
— А здесь по вечерам, — с горячностью продолжает Битюгов, — улица была ужасна. Особенно осенью. Грязь, туман, крики: «Караул!» Электричества не было, единственный фонарь коптел, мигал, а улица тонула во мраке. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет…» Ну, прямо про нас писано! «Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет…»
Ольга Петровна шьет, как будто не слушает.
— И вот прошло как раз четверть века, — еще громче говорит Битюгов, — и как все изменилось! Я, например. Был нищим мальчишкой, а окончил университет. Да разве я один!
Раздался долгий паровозный гудок.
— Вот всегда так, — говорит Оля, зажимая уши. — Тоска: воет, за сердце хватает. А закроешь окно — одолевает сырость.
— Ничего, придет время, мои милые, и от нашей теперешней улицы и следа не останется. Домищи будут… И сады!
— А церковь? — спрашивает Маша.
— Памятник старины, — скривив губы, говорит Битюгов. — А я думаю — взорвут к чертям собачьим. Никакой в ней ценности.
— А когда это все будет?
— Ну… лет через десять, по всей вероятности.
Битюгов вытирает лоб платком.
За окном вечер, и нельзя сказать, чтобы улица была хорошо освещена. Темновато. А церковь выделяется отчетливо.
— Через десять лет!
Битюгов снова садится за стол. Напрасно он назвал этот срок. Он надеется на крымский санаторий, куда поедет Оля, но ему кажется, что ни Крым, ни лучшие доктора, ни лекарства не помогут Оле так, как та вера, которую он пытается в нее вдохнуть.
Маша прощается и уходит. И тут только Ольга начинает неудержимо кашлять.
Семен Алексеевич вскакивает и подносит ей воду.
— Я слыхала, — говорит она, немного успокоившись, — что наш дом будут ломать.
— Обязательно. Как же иначе?
— А мы?
— Переселят. Куда же нас денут!
— Ах, скорее бы…
Битюгов ставит стакан на тумбочку. Вода расплескивается. Он снова садится за стол. Плечи у него опущены, а руки без цели перебирают бумаги.
И Оля говорит из своего угла:
— Ты не волнуйся, Сема. Что делать? Подождем.
Глава четвертая
МАТЬ И ДОЧЬ
В середине октября выдался на редкость теплый и светлый день. Но солнце, заглянув во флигель, лишь выделило убожество полуразрушенного жилья: пятна сырости на стенах, трещины на потолке, щели в углах и на полу.
Жильцы были не в духе. Варвара Снежкова стояла на кухне с повязкой на лбу; накануне она работала до двух ночи и теперь мучилась мигренью. Примус не разжигался, спички падали из рук. А тут еще, откуда ни возьмись, под самой раковиной показалась большая глазастая крыса. Не обращая внимания на крик Варвары: «Ух, чума, зараза!» — она продолжала стоять на месте и с любопытством поводила носом.
С тех пор как одна из наглых тварей пробралась на антресоли и напугала маленькую Миру, а с Полей сделалась истерика, у жильцов к крысам появилось больше, чем отвращение, — суеверный страх. И теперь, уже после того как исчезла крыса, у Варвары долго дрожали руки, а Вера Васильевна Шарикова с беспокойством осматривала свой образцовый столик.
— Как бы она не принесла нам беду!
Это было через два дня после посещения агитатора, который говорил о будущей войне и о диверсантах, засылаемых врагами. И даже прочитал стихи советского поэта, где некая девушка Маша — тоже Маша! — заразилась от подосланной крысы и умерла. Жильцы были подавлены, а Варя высказалась по-своему:
— Такая-то жизнь наша! В новый-то дом диверсант не проберется!