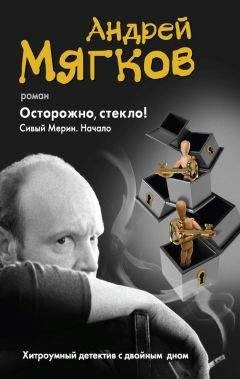— Знаю.
— Понимаешь, сколько кирпича потребуется?
— Понимаю.
— Вот и хорошо. Получай путевку и отправляйся на кирпичный завод.
Получил. Пришел. И попал на зарой.
Алексей Хворостов вырос в селе Троицком в семье колхозного кузнеца. По окончании сельской школы, как многие другие деревенские парни и девчата в ту пору, подался в город. И тоже оказался на зарое кирпичного завода. Как деревенского жителя, его сразу же приставили к мерину Чемберлену. Семен Карайбог благословил:
— Давай, вольный сын полей! Цоб-цобэ!
Алексея Хворостова вполне устраивала выпавшая ему планида. Лошадей он любил, а, главное, время, проведенное в пути от зароя до пресса и обратно, можно использовать для декламации чужих стихов или сочинения своих собственных, чем он грешил еще с пятого класса трудовой школы. Понукая философически неторопливого Чемберлена, Хворостов оглашал зарой возгласами: «Довольно грошовых истин!», «Вперед, вперед, моя исторья!» — или читал нараспев:
У тебя
молодая рука,
пред тобою —
синеет река.
Слушай мудрость
и помни одну:
не стремись
раньше срока
ко дну.
Чемберлен прядал ушами, что можно было счесть за одобрение, а заройщики заключали:
— Хороший парень, да с придурью!
2
Был на зарое еще один человек. Шестой. Хотя работал он рядом с заройщиками, все же своим они его не считали. Да и вообще не считали человеком.
Шестой был Тимофей Жабров.
Пять заройщиков состояли на твердом окладе: работали от гудка до гудка, вкалывали на всю железку и два раза в месяц получали по пятнадцати целковых. Подчинялись одному правилу: у пресса всегда должна быть глина.
Тимофей Жабров был на «уроке». Каждое утро на зарой являлся десятник Лазарев, человек незлобивый, тихий, правда несколько преувеличенно оценивавший свою роль на заводе. Еще издали увидев сутулую фигуру десятника, Семен Карайбог возвещал:
— Явление Христа народу!
Лазарев старательно отмеривал участок глиняного пласта, который предстояло раскопать. Целина улежалась до гранитной твердости, и такая задача была под силу разве только роботу.
Таким роботом и был Тимофей Жабров. Работал он обычно в одних подштанниках с закатанными до колен штанинами и в стоптанных брезентовых туфлях. В бронзово-чугунном маслянистом от пота теле Жаброва не было жира, да, пожалуй, не было и мяса. Под коричневой кожей прощупывался только металл, как и положено роботу, лишь для видимости обтянутому человеческой кожей.
Под нажимом рычага-ноги лезвие жабровской лопаты вонзалось в глину. Рывок на себя, толчок вперед — и летит в сторону звенящий глиняный ком. Десять, двадцать, тридцать минут… А робот производит одни и те же запрограммированные движения. Только вспыхивает под беспощадным июльским солнцем до слепящей белизны отточенное лезвие лопаты.
Лопата робота не чета перержавевшим железкам заройщиков с их сучковатыми, грубо обтесанными рукоятками. Узкое длинное лезвие ее такое острое, что, кажется, само, без всякого усилия входит в веками слежавшуюся окаменевшую глину. Лопатой Жаброва можно запросто нарезать хлеб, очистить картошку, а при нужде, пожалуй, и побриться. Рукоятка ее отполирована до блеска и кажется выточенной из янтаря. Рука легко и мягко скользит по ней.
Заслышав гудок, возвещающий окончание рабочего дня, заройщики беспечно швыряли куда попало свои замызганные лопаты — все равно завтра снова лезть с ними в глину. Что же касается Тимофея Жаброва, то за своей лопатой он ухаживал, как добрый цирюльник за бритвенными причиндалами. Окончив работу, любовно обтирал лопату припасенной тряпочкой, бережно натягивал на нее специально сшитый чехольчик. Оставлять на заводе свое сокровище Жабров не рисковал и шагал домой в Стрелецкую слободу, закинув лопату на плечо, как солдат ружье.
Глядя, как колдует Жабров над своей лопатой, Семен Карайбог негодовал:
— Кулацкая жила! Попадись мне в двадцать девятом, показал бы ему где раки зимуют.
То, что Семен Карайбог да и все заройщики называли Тимофея Жаброва кулацкой жилой, не являлось данью времени. Жабров был родом из того же села Троицкого, что и Хворостов, и Алексей досконально знал всю подноготную робота. Отец и дед Тимофея Жаброва торговали в свое время скотом, жили богато, держали лошадей и быков, построили кузницу, арендовали у помещика Баранцевича мельницу. Одной пахоты поднимали до ста десятин.
После революции и во времена нэпа прасолы Жабровы еще держались, хотя Советская власть изрядно подрезала им крылышки. В году двадцать седьмом, почуяв неладное, три брата Жабровы (папаша их к тому времени уже преставился) распродали движимое и недвижимое и смылись из Троицкого. Старшие подались в Донбасс, на шахты, а младший Тимофей осел в губернском городе, женившись на гулящей вдове из Стрелецкой слободы. О том, как Тимофей Жабров покорил сердце слободской шалавы, заройщики знали с исчерпывающей полнотой.
…Как-то весной в городе появились саженные красочные афиши, извещавшие уважаемую публику об открытии в цирке большого чемпионата классической французской борьбы. С того дня город не знал покоя. Каждое утро на всех углах афиши гласили:
«Прибыла и выступает непобедимая Железная Маска».
«Чемпион Сибири против прославленного русского богатыря».
«Кто кого: турецкий чемпион любимец Востока Тулумбай-бей или волжский колосс?»
Каждый вечер под команду «Парад-алле!» на манеж цирка выходили люди с феноменальными бицепсами, с неправдоподобными ногами-колоннами, грудастые, как профессиональные кормилицы, с животами, выпирающими из трико, словно туда засунули добрые астраханские арбузы, делали круг по манежу, картинно тряся непомерными телесами. Дядя Вася, судья чемпионата, давал свисток, и на ковер тяжкой рысцой, как ожиревшие пожарные кони, выбегала очередная пара борцов. Соперники стонали, ворчали, сопели, обильные их тела колыхались, как опара, острый запах пота, распространявшийся по амфитеатру, смешивался с запахами конюшни и зверинца.
Любители борьбы, заполнявшие цирк, со сладострастием следили за всеми перипетиями схваток на ковре. Никому не было дела до ядовитых замечаний скептиков, утверждавших, что чемпионат — типичная лавочка, что между борцами заранее договорено, кому сегодня и на какой минуте ложиться на лопатки.
В последний день чемпионата, когда публика шумно приветствовала победителя, турецкого чемпиона Тулумбай-бея (уроженца города Саратова, значившегося по документам Афанасием Григорьевичем Свиридовым), на арену вышел дядя Вася во фраке и белой манишке и торжественно объявил:
— Уважаемые зрители! Дирекция цирка выдаст сто рублей наличными тому, кто вступит в единоборство со звездой чемпионата, знаменитым и повсеместно прославленным Тулумбай-беем, и победит его!
Зрители дружными аплодисментами встретили сообщение дяди Васи. Кому не охота за те же деньги посмотреть еще одну схватку!
Три раза обращался дядя Вася к публике, прекрасно понимая, что никто не рискнет померяться силой с таким чудищем, как Тулумбай-бей. Собственные кости дороже!
Неожиданно на галерке возник шум, движение, и с верхотуры начал спускаться средних лет мужчина, ничем не примечательный на вид, в мятом пиджачке явно деревенского пошива. Оглядев худощавую и несколько сутуловатую фигуру соискателя, в которой ничего не было не только борцовского, но и просто спортивного, дядя Вася не без иронии, явно рассчитывая на публику, спросил:
— Вы хорошо обдумали свое решение?
Новоявленный борец угрюмо кивнул головой:
— Уполне!
Публика шумно подбадривала добровольца:
— Давай, давай, деревня! Покажи им, где раки зимуют!
Дядя Вася с наигранной беспомощностью развел руками — дескать, я предупредил — и повел соискателя переодеваться. Вскоре тот вышел на манеж. Своего трико или просто трусов у любителя не оказалось, дирекция же цирка казенных не дала (пусть чудней будет!), и бедняга вышел на манеж в белых штанах, смахивавших на обыкновенные подштанники, предварительно засучив их до колен. Такой наряд соискателя подбавил масла в огонь. Шум и гам колыхали купол цирка.
Под туш оркестра природным бельгийским брабансоном выбежал на арену победитель чемпионата Тулумбай-бей. Уверенный в исходе предстоящей схватки, он протрусил по кругу, еще раз демонстрируя публике свои чудовищные мяса́. По сравнению со звероподобным мастодонтом Тулумбай-беем, живой вес которого, как указывалось в афишах, достигал десяти пудов, поджарая фигура самодеятельного борца — кожа да кости — казалась просто жалкой. Последовал новый взрыв смеха, шуток, советов. Правда, нашлись и такие, что заподозрили во всем этом рекламную комедию, заранее подстроенную распорядителями чемпионата для увеселения публики. Кричали: