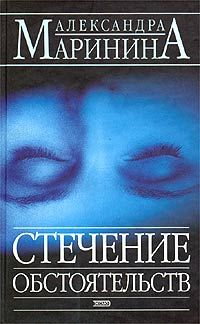трудом отыскав среди тяжелых видений бледное лицо дочери, — позови Сережу… Сейчас же… в последний раз…
Ударил гром, и за окнами началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжелые струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче.
А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал:
— К окну!
Испуганная Лидия Николаевна запротестовала.
— В кресло! — повторил Николай Николаевич твердо. — И открой окно настежь. Я здоров, и мне кажется, что я молод.
Он сидел у окна улыбаясь, и, действительно, на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему двадцать лет и он только что помирился с любимой девушкой.
Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось, и необсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель.
У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна прийти девушка.
Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей.
— Отец! Ну, как ты? — спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.
— Я звал тебя, Сережа… — спокойно заговорил Николай Николаевич. — Мне кажется, я… — Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу.
Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал:
— Сережа, ты видишь вон там, в роще, парня? У большой березы. Иди и скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса… — И глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал: — Да, да. Сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождет.
— Отец… — начал обеспокоенный Сергей Николаевич.
— Нет, нет… Я в своем уме, — перебил Николай Николаевич. — Сходи… я прошу тебя… иди, иди…
Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты.
Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновленной грозой березовой рощи.
Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном, осмысленном движении.
Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.
Больше двенадцати часов в сутки не удается поспать даже пассажирам. Петр Васильевич с досадой хлопнул по матрацу и сел у окна. За окном один за другим менялись пейзажи, но Петр Васильевич был не мальчиком, едущим по железной дороге в первый раз. Он снова лег, закинул руки за голову и с ненавистью взглянул на потолок.
«Хоть бы сел ко мне кто-нибудь в купе, что ли», — подумал он. Петр Васильевич Голубев возвращался в свой город после двухмесячной командировки. В командировки Петру Васильевичу приходилось ездить часто, но особенно он любил обратную дорогу. Домой он возвращался всегда веселым, свежим, вез с собой подарок жене и пару старых анекдотов и острот, услышанных от новых знакомых. Новые знакомые всегда рассказывали старые анекдоты.
Подарок и анекдоты были и в этот раз, но настроение было такое паршивое, как будто у него только что вынули из кармана двести рублей. Петр Васильевич занемог болезнью довольно редкой и большей частью легко переносимой — угрызениями совести. Он не изнурял себя этим недугом по пустякам, для этого нужна была какая-то серьезная причина. Такая причина была. В эту поездку Петр Васильевич в первый раз изменил своей жене.
Женился он пять лет назад, будучи студентом и будучи влюбленным. Спокойный и немного замкнутый, он был эти пять лет верен и тих, и вот вдруг неожиданно свихнулся.
«Изменил самым подлым образом. Изменил кому? Вере, моей Вере. Такой чудной женщине, такой любящей жене. Ловелас! Гусар! — думал Голубев, ожесточенно раскуривая папиросу. — Как я буду смотреть ей в глаза? Обманывать ее… Это единственный человек, которому я не мог… не смел лгать, и вот… Как же это? Ведь я ей теперь, в сущности, совсем… абсолютно чужой мужчина».
«Чужой мужчина… — повторял Петр Васильевич вслух, вскочил и стал смотреть в окно, ничего в нем не видя. — Пожалуй, я признаюсь ей во всем. Она умная и нежная. Она простит меня».
Здесь Голубев заметил, наконец, что поезд остановился в небольшом новом городке, что дело к вечеру и до дома оставалось три часа езды. За окном вдоль вагона спешили навьюченные багажом люди с испуганными лицами. «Зачем они бегут? Ведь все равно все сядут. Особенно суетятся женщины», — подумал Петр Васильевич и стал следить за хорошенькой девушкой, которой быстро бежать мешала узкая юбка.
Наблюдать за ней было смешно и весьма любопытно. В это время дверь в купе Петра Васильевича отворилась легким и решительным движением. Голубев повернулся. Перед ним стоял незнакомец с небольшим чемоданчиком в руке и плащом, закинутым; через плечо. Ему, как и Петру Васильевичу, было лет тридцать с лишним, но он был гораздо выше и молодцеватее. Под пиджаком он имел рубаху-«дикарку», на голове прогрессирующая плешь изрядно прикрывалась темными волосами, зачесанными со лба назад, щеки гладко выбриты, штиблеты совсем еще не старые и хорошо начищены. «Вот, наконец, и попутчик! Да кажется, интересный». Петр Васильевич улыбнулся и сделал шаг навстречу. Незнакомец поставил чемодан, бросил на полку плащ и, подавая руку, улыбнулся тоже.
— Добрый день! Скороходов.
— Голубев.
— Очень приятно, — сказал Скороходов, усаживаясь у окна. — Через три часа мы будем в Н-ске. Вам туда же?
— Да, — отвечал Петр Васильевич, подсаживаясь к долгожданному собеседнику, — еду к жене.
— К своей? — весело спросил Скороходов.
— К… своей. А почему вы спрашиваете? — забеспокоился Голубев. Скороходов ударил по самой дребезжащей струне его души. — Разве похоже, что я могу ехать к чужой жене?
— Нет, что вы! — отвечал Скороходов, снимая пиджак. — Это я, видимо, пошутил. К чужой, к своей — это все равно. К чужой приятнее. Давайте лучше закусим.
Он полез в свой чемодан и достал оттуда ветчину, хлеб и бутылку вина.
— Еще древние философы говорили, что человек живет для того, чтобы пить и закусывать, — говорил Скороходов, разливая вино, — эта блестящая мысль не потеряла своей актуальности и по сей день. Выпьем! «Снова я пьян — снова я счастлив!» — говорил мой знакомый поэт.
По-моему, он интеллигентнее меня, — подумал Петр Васильевич с уважением. Он повеселел, но мысль о совершенной им измене никак не улетучивалась из головы. «Интересно, как относится к этому, например, этот вот человек?» —