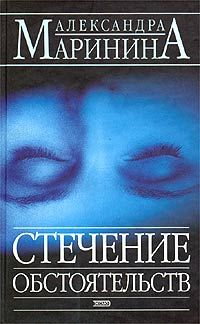думал Голубев во время разговора о ценах на вино и железнодорожные билеты.
Попутчики допили бутылку, закусили, закурили, и Петр Васильевич, пустив перед своим лицом большой клуб дыма, вдруг спросил:
— Скажите… Вы никогда не изменяли своей жене?
Скороходов поднял брови, остановил руку с папиросой в воздухе и, с недоумением всматриваясь Голубеву в глаза, проговорил:
— Что?
— Вы никогда не изменяли своей жене? — нервно повторил Петр Васильевич.
Тогда Скороходов расслабленно махнул рукой, откинулся к стенке и вдруг рассмеялся громко и раскатисто, заглушая стук колес.
— Что это… ха-ха-ха… что это вам взбрело? — едва смог спросить он между приступами смеха. Скороходов, что называется, «ржал» и «ржал» так, что Петр Васильевич, глядя на него и не понимая себя, засмеялся тоже, сначала глухо и отрывисто, потом громче и смелее. Ему вдруг стало совсем весело.
— Вот уморили! — проговорил Скороходов, наконец унимаясь и вытирая лицо платком, — …своей жене! Ха-ха! Вы ужасный фантаст!
— Да я пошутил, — соврал Голубев.
— Вы, наверное, открываете музей нравственности и вам некого экспонировать, — продолжал Скороходов. — Я вам сочувствую, но ничем помочь не могу. Я умею выдавать себя за верного мужа только своей жене. Вы все равно мне не поверите.
— А жена вам верит? — спросил Петр Васильевич.
— Конечно. Это одна из ее супружеских обязанностей.
— Но…
— Никаких «но». «Любовь и вздохи на скамейке». В любви, как и везде, надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей.
«А ведь он гораздо интеллигентнее меня», — снова подумал Петр Васильевич.
— Жениться приходится только для того, чтобы иметь законных детей, говорил Скороходов, — женщине трудно сохранять верность, мужчине — смешно…
И Скороходов небрежно и цинично стал говорить о женщинах, излагая при этом взгляды отпетого алиментщика. Развеселившийся Петр Васильевич вторил, поддакивал, рассказал неприличный анекдот и между прочим с насмешкой и пренебрежением произнес:
— А ведь некоторые остаются все же верными мужьями.
— Фантасты, мой друг, фантасты, — отвечал Скороходов, поднимаясь и надевая пиджак.
Уже стемнело, за окном запрыгали огни приближающегося города. Скороходов, опираясь руками о столик, наклонился к окну и сказал:
— В этом городе около полумиллиона жителей, прикиньте-ка, сколько из них одиноких и временно одиноких женщин. Всем им хочется быть любимыми, все они жаждут ласки. Любите же их! И не любите долго одну и ту же, а то она подаст на вас в суд за невнимание к ее слабостям.
В окно ворвались большие и яркие огни вокзала, и поезд остановился. Шумел, радовался, грустил и сентиментальничал перрон — место ничего не значащих, безнаказанных поцелуев. Голубев и Скороходов выбрались на привокзальную площадь.
— Ну, я спешу, — сказал Скороходов, подавая руку. — Где-нибудь встретимся.
Голубев долго и признательно тряс его руку. Потом Скороходов отошел в сторону — ловить такси.
Петр Васильевич выкурил папиросу, сел в автобус и уже через пятнадцать минут подъезжал к дому.
В голове у него плавали легкие и беззаботные мысли. «Подумаешь, изменил! Скороходов поумнее меня, а смотрит на эти вещи просто. Так было, так будет. Не я так устраивал, не мне переделывать».
В игривом расположении духа, насвистывая, Голубев вошел в свою квартиру.
В прихожей он увидел Скороходова, снимающего на его вешалке свой пиджак.
Мгновения оцепенения, в котором находился первое время Петр Васильевич, Скороходову было вполне достаточно. Он с артистической ловкостью оделся, взял свой чемодан и, пробормотав почему-то «извините», выскользнул в дверь.
Петр Васильевич отодвигает от себя кипу тетрадей, встает со стула, подходит к окну и щелкает выключателем. В комнате тепло, но Петр Васильевич ежится, глядя на мертвую луну, на скованную холодными тенями улицу и на застывший за блестящими сугробами лес.
Сугробы и лес бесконечны, а село маленькое, хотя и районный центр. До железной дороги шестьдесят километров, до большого города — двести. В селе школа, больница, клуб, пекарня, баня — все в единственном числе и на одной улице. Центр села — новая каменная чайная, около которой всегда много машин, подвод и бывают происшествия.
Макаров приехал сюда два с половиной года назад. Теперь здесь его любят, ценят, и директор школы, ворчливый, придирчивый человек, хотя и называет его до сих пор студентом и грозится на ком-нибудь женить «для солидности», но тоже его уважает.
У окна Макаров стоит долго и не шевелясь. Постоянная задумчивость делает его лицо строгим, к тому же он близорук и почти не снимает очков, что придает строгость и его взгляду. На самом деле глаза у него немного грустные и красивые.
Петр Васильевич быстро поворачивается и зажигает свет. Скрипит дверь, и в комнату входит его новый товарищ Владимир Николаевич Лесковский единственный в селе адвокат. Лесковский в этом селе первый год и, говорят, приехал сюда вслед за Зинаидой Александровной Тениной, учительницей географии, с которой знаком давным-давно. В Зинаиду Александровну здесь влюблены многие, начиная с пожилого, семейного и чудаковатого физика Дунина, который на учительских вечерах тенором поет неотразимый романс Глинки «Не искушай», и кончая учеником десятого класса семнадцатилетним Лоскутниковым.
Лесковский молча раздевается и начинает ходить по комнате. Он мрачен и, как это с ним бывает, слегка пьян.
— Скучно до изумления, — говорит он, останавливаясь у окна рядом с Макаровым, — человеку вреден досуг. Сумасшествие и пьянство начинаются от избытка досуга. М-да… Философия, видимо, тоже.
— Заныл! — говорит Петр Васильевич добродушно.
— Нет, мне интересно, — продолжает Лесковский, насмешливо прищуриваясь, — мне интересно, где ты собираешься провести сегодняшний вечер. На чем ты остановишься: в кафе, в оперетку, в ресторан?
— Ну, тебе жаловаться нечего. Напиться, я думаю, везде можно.
Лесковский нетерпеливо поворачивается к Макарову и с раздражением:
— Да! Я предлагаю напиться и ломать стулья! Макаров пожимает плечами и отворачивается к окну.
— Мы неудачники, слышишь, Макаров, мы с тобой злостные, законченные неудачники. Удачи не приводят людей в такие дебри. Сюда приезжать разве только стрелять глухарей да собирать грибы… Я молод, черт возьми, я не могу каждый вечер играть в шахматы, смотреть в одну точку или плевать в потолок. Нет. Уж я-то весной непременно сматываюсь. Умирать я, возможно, приеду сюда, а пока… ну нет!.. Вот ты, Макаров, молод и неглуп. Неужели у тебя нет уже больше никаких стремлений, порывов там, желаний, ну и перспектив? Неужели ты не имеешь никаких претензий к фортуне, никаких видов на собственное счастье? Удивляюсь…
Макаров говорит задумчиво:
— Что ты знаешь о счастье? Мне здесь хорошо, я на месте — ясно? Каждый человек должен быть счастлив по-своему. Я счастлив, как умею. У меня есть дело, которое я люблю, силы — заниматься этим делом, — с меня хватит. А чего хочешь ты?