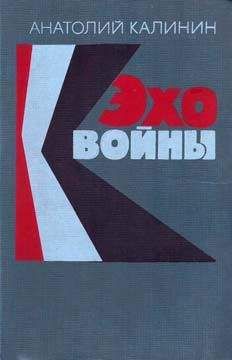— Найдутся, — коротко сказал Семин и, зачем-то оглянувшись, сел на свое место.
— Нехорошо, товарищ Еремин, — пробился сквозь поднявшийся в зале шум все тот же развязный голос молоковоза Федора Демина, — нажим делаете. Люди еще подумать хотят, а вы из них клещами согласие вытягиваете. Не по уставу.
И тотчас же раздался спокойный голос, который сразу узнал Еремин:
— Не по уставу? Василий Михайлович, дай мне слово.
Это была Дарья. Она не пошла, как все, на сцену, а поднялась и осталась стоять на месте, полуобернувшись и к президиуму и к собранию.
— Это ты, Федор Демин, кричал? — спросила она, всматриваясь в темноту зала сузившимися глазами. — Ну, тебе-то, конечно, ничего больше не остается, как в голос рыдать. Ты всю весну и лето прорыбалил, с зари до зари в лодке под яром сидел и только перед уборкой в бригаде объявился. Небось с полета трудодней нагреб?
— Плохо считаешь. Семьдесят пять, — зло бросил из угла Федор Демин.
— Ну, — удивилась Дарья. — Я же и говорю, что нагреб, — заключила она под общий хохот.
Ничто так не убивает, как смех, и Федор Демин, услышав его, сел на лавку, яростно озираясь и не делая больше попыток прервать Дарью. Выступая, она раскраснелась, платок развязался у нее и сполз на плечи, серые большие глаза под трепещущими бровями сверкали, и лицо стало ярко, вызывающе красивым. Глянув в зал, Еремин перехватил взгляд Кольцова, восторженно смотревшего на Дарью.
— Ты, Федор, — говорила она, — в надежде был, что другие на каждый твой трудодень по целому пуду зерна заработают и ты больше тонны загребешь, и вспомнил сейчас про устав. Что-то ты о нем не вспоминал, когда сидел под яром. — Смех опять пробежал по рядам. Дарья переждала его и повысила голос: — Вы слыхали, кто тут больше всех горло драл? Кто по малу трудодней имеет и надеялся, что люди им на каждый трудодень по многу хлеба заработают. У меня с детьми тысяча трудодней, я две тонны зерна получу, и мне хватит до урожая. Проживем. Устав, Федор, не для лодырей. Он против лодырей.
И она села.
За предложение продать государству триста тонн пшеницы проголосовали единогласно. И даже Федор Демин, сидевший у двери, прислонившись плечом к косяку, глянув в зал и увидев лес рук, не захотел оставаться в одиночестве и тоже небрежно поднял руку.
Поздно вечером, приехав с собрания домой и тихо поднимаясь по скрипучим ступенькам, чтобы не разбудить жену и детей, Еремин услыхал, что в его комнате звонит телефон. Он быстро открыл ключом дверь, прошел к себе в комнату и взял трубку. Звонили из колхоза имени Кирова. Сквозь треск и шумы районной телефонной линии Еремин узнал голос Морозова.
— Иван Дмитриевич, возим семенное зерно, — сказал в трубку Морозов.
— Что-о?! — оглядываясь на дверь, за которой спали жена и дети, и зачем-то прикрывая ладонью трубку телефона, переспросил Еремин.
— Товарищ Семенов приказал вывезти все, — пояснил Морозов.
— Он у вас? — чувствуя, как трубка телефона мгновенно запотела у него в руке, быстро спросил Еремин.
Слышимость на внутрирайонной телефонной линии внезапно сразу установилась отчетливая, ни один шорох не приплетался к разговору. Казалось, Морозов стоит где-то совсем рядом. Еремин слышал его дыхание.
— Он спит у меня на квартире.
— Вы по договору закончили вывозить?
— Вы же знаете, Иван Дмитриевич, — удивленно сказал Морозов.
— Дальнейший вывоз хлеба прекратите. Из семенного и аварийного фуражного фонда брать запрещаю, — громко сказал Еремин.
— Товарищ Семенов предупредил, что я буду отвечать партбилетом, — растерянно сказал Морозов.
— Запрещаю! — не заботясь больше о том, что он может разбудить всех в доме, крикнул в трубку Еремин. Струны нервов, натягивавшиеся весь день, вдруг сразу оглушительно лопнули. — Чтобы ни одного килограмма! Вы слышите, Морозов?!
На линии опять засвистело и зашипело, кто-то настойчиво крутил ручку телефона. Глухой ответ Морозова совсем потерялся:
— Слышу, Иван Дмитриевич.
В щель приоткрывшейся из соседней комнаты двери выглянуло лицо жены с большими испуганными глазами.
— Что-нибудь случилось, Ваня?
— Ты, Женя, спи, — положив трубку на рычажок, устало ответил Еремин.
Эту ночь он опять не спал, курил у себя в комнате и на крыльце, думал. Мысленно допытывал себя: в чем был прав, а в чем, может быть, неправ, старался доискаться, чем разумным мог руководствоваться Семенов. Он, конечно, не в свой карман ссыпает зерно; может быть, он даже искренне уверен, что поступает единственно правильно, борется за хлеб. Но он из той породы штурмовщиков, которые упрутся в одно и не хотят больше ничего видеть. Штурмовщик, заквашенный на кампанейщине, на карьеризме и на мелком тщеславии: как сказал, так и будет. А там хоть трава не расти. Неверов, так сказать, областного масштаба. А если сказал в первую минуту, не подумав, просто сорвалось с языка, и допустил ошибку из-за недостаточного знания обстановки? Почему бы и не поправиться, не взвесить все заново, трезво взглянуть в лицо фактам? Если поганенькое самолюбие не позволяет сделать это вслух и открыто, то сделай хотя бы на деле. Ведь самое важное, чтобы дело не пострадало. За пять дней пребывания в районе ни разу не взглянул по сторонам, не поинтересовался; как живут колхозы. Не вообще, не в общем и целом, а тем, как живет каждый колхозник, что думают люди, с чем район идет в зиму. Тогда бы он увидел, как в действительности складывается хлебный баланс в каждом колхозе, где подзажали зерно, а где отдали все, что могли отдать, и оставили только на необходимейшие нужды. Нет, не хочет оглянуться. Думает, только он озабочен тем, что государству нужен хлеб. Да Еремин ни на минуту не позволил себе подумать, чтобы район недодал хотя бы одного килограмма зерна.
Чем больше думал об этом Еремин, тем большее испытывал возмущение. Вспомнил и грубый намек Семенова на то, что кто-то из них двоих здесь секретарь обкома. И однажды всплывшее в сознании Еремина слово «штурмовщик» плотно приклеилось к облику Семенова.
А штурмовщики уже до этого причинили немалый урон сельскому хозяйству. И если они не хотят переучиваться, то пора бы уже с ними и расставаться.
Чем больше думал об этом Еремин, тем больше приходил к выводу, что никак не избежать ему ехать в обком, к Тарасову.
В семь часов утра он сел в автомашину и к девяти уже был в областном центре.
С Тарасовым он буквально столкнулся у дверей обкома. Тарасов жил неподалеку и шел на работу.
— Вы почему в это время без вызова приехали в область? — прищуриваясь, спросил он у Еремина.
— План хлебопоставок и натуроплаты МТС мы выполнили, — сказал Еремин.
— А госзакупки?
— Возим, Михаил Андреевич, но мы бы просили нас освободить…
Разговаривая, они поднимались рядом по широкой каменной лестнице на третий этаж обкома. Тарасов дышал тяжело, и Еремин, посматривая на него сбоку, видел, как бледнеет у него смуглая щека, проступает на виске темная веточка жилки. При последних словах Еремина он остановился на лестничной площадке второго этажа и повернул к нему сердитое, покрытое испариной лицо.
— От госзакупок? — с изумлением и разочарованием перебил он Еремина.
— …от излишнего опекунства, — договорил Еремин.
— А! — коротко уколол его взглядом Тарасов, и Еремин расслышал в его голосе облегчение. — Хорошо, поднимемся ко мне.
Он уже успел серьезно надорвать сердце и, пока они взошли на третий этаж, несколько раз останавливался на ступеньках, отдыхая. Грудь его бурно вздымалась и опускалась. Шляпу он снял и нес в руке. На лбу выступили капли пота.
В кабинете он тотчас же настежь раскрыл окно, выходившее на улицу, нестройно звучавшую в этот утренний час сиренами автомашин, и людскими голосами, и, молча указав Еремину на стул, сел за стол на свое обычное место. И, только посидев и отдышавшись, повернул к Еремину лицо, от которого медленно отливала бледность.
— Так что же вы подразумеваете под своими словами «освободить от опекунства»? Надеюсь, не что-нибудь вроде черного знамени: «Анархия — мать порядка»? — без малейшего намека на улыбку напомнил он Еремину.
— Нет, Михаил Андреевич, тут совсем другое, — невольно смутился Еремин. И тотчас же краска досады выступила у него на скулах.
…И он рассказал Тарасову, что подразумевает под своими словами. Рассказал о своей стычке с Семеновым в райкоме. О собрании в «Красном кавалеристе». О Семиных-Деминых и Дарье. О ночном звонке Морозова.
Тарасов слушал его не перебивая, и по его лицу нельзя было понять, как он относится к тому, что говорил Еремин, — согласен или не согласен. Бледность уже отхлынула от липа Тарасова, и оно стало обычным, матово-смуглым. К влажному лбу прилипла черная прядь.
Слушал он внимательно, но в глазах его, устремленных через стол, Еремин так и не прочитал сочувствия своим словам. Скорее наоборот — брови у Тарасова все больше хмурились и вскоре сомкнулись широкой скобкой. И, глядя на эту скобку, Еремин испытывал все большую неуверенность; заканчивая, он постарался хоть как-то смягчить свои слова, чтобы рассеять невыгодное впечатление, которое они, вероятно, произвели на Тарасова.