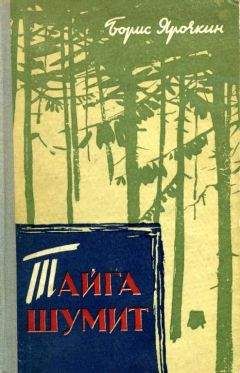Николка видел, как мать таскали за волосы, топтали, требуя печать. Что было дальше, мальчик не помнит. Он воспользовался темнотой, выскочил в одном белье на улицу и с криком «Тятьку и мамку убили!» бросился к сельсовету. Когда же на крик мальчонки прибежали заспанные соседи, в избе Уральцевых было тихо: отец и мать лежали мертвые. Смутно помнит Николай, как жил потом по чужим людям. Помнит, как сбежал из деревни и колесил с случайными дружками-беспризорными по России, как привезли его однажды в детдом. Там он учился, потом приехал в леспромхоз. Семнадцатилетним парнем взял он в руки топор и пилу. С непривычки болело тело, он с напарником едва выполнял норму — пилили тогда еще поперечной пилой. Потом постепенно втянулся, окреп. И вот наступили дни, когда люди заговорили о нем.
Ему исполнилось девятнадцать. Крепко становился на ноги. Лучковой пилой впервые в леспромхозе поставил рекорд, заготовив за смену три с половиной нормы. Потом еще и еще. Ему дали отдельную комнату, выделили участок земли под огород. Не раз Николая премировали, о нем писали в газетах. Тогда его уважали, ему завидовали…
Николай шумно вздохнул.
«Да, это было тогда, — думал он, закуривая неимоверной величины цигарку и обволакиваясь дымом, — а теперь? Разве я плохо работаю, что на меня, как на волка, смотрят? Разве я не тот же Николай? Почему же такое ко мне отношение? И Верхутин, и Веселов, и Павел Владимирович, и Танька — все обозлились на меня…»
— Коля, — проникновенно сказала Зина, придвигая к нему свой стул, — а ты расскажи, в чем дело, поделись. Глядишь, и легче станет. Одному переживать-то тяжелее…
Николай повернулся к девушке, посмотрел на нее долгим взглядом. Маленькие, темные глаза ласкали его, в них было невысказанное сочувствие, растрогавшее Николая; подведенные брови застыли в ожидании, накрашенные губы были слегка открыты.
«Хорошая ты девушка, отзывчивая, — подумал Николай, — зачем только красишься и мажешься?»
— Обидно, Зина, вот что… — Николай взял стакан, выпил, налил еще.
— Что обидно, Коленька? — Зина придвинулась ближе.
— Да раньше вот хорош был, а теперь для них никудышным стал. А почему? Потому что один работаю, привык так. У меня и у одного хорошо получается, — сдерживая клокотавшую в груди обиду, говорил он. — Подумать, какая разница — один ли работаю, вместе ли, лишь бы кубики были,.. Время, говорят, такое, что коллективом надо… А я не согласен! Я хорошо работаю… А Танька вон что сказала: ты, мол, отстал от нас. Это я-то отстал! — язвительно улыбнулся он. — Я им еще покажу, кто отстал, они по-другому заговорят!..
— А ты не обращай внимания. Знаешь, собака лает, а ветер носит…
— Да, носит… Хорошо, когда мимо!
— Коля, а ты заявление напиши директору. Так, мол, и так, разрешите одному работать…
— Я и так один работаю, да только вот проходу не дают, — признался он. — Дался я им, и все тут!
Мутно было на душе у Николая. Обида и злость бередили грудь, рвались наружу. Он налил рюмку Зине, взял свой стакан, чокнулся с ней и залпом выпил. Кружилась голова. Хотелось спать. Попытался подняться и уйти, но отяжелевшие ноги не повиновались, голова склонилась на грудь, опустилась на стол. Зина, обняв его за плечи, шевельнула.
— Коля, пойдем, я провожу тебя…
— Не… не… не п-понимаешь ты м-меня… — бормотал Николай.
— Понимаю, Коленька, понимаю, родной… я же люблю тебя, ты слышишь? — сквозь слезы шептала девушка. — Давно люблю, а ты… ты не знал этого, да и сейчас не понимаешь… — сокрушенно вымолвила она.
Николай заерзал на стуле, медленно поднял голову, посмотрел на Зину.
— Т-ты ч-то… а-а? — сказал он, потирая виски.
— Люблю, Коленька, люблю тебя, понимаешь? — с отчаянием прошептала девушка и, опустившись на колени, обвила его шею руками, целуя щеки, губы, лоб. — Люблю, люблю, люблю, — как в бреду твердила она. — Ты слышишь, Коля? Ты понимаешь: я люблю тебя…
…Ушел Николай от Зины рано утром…
Открыв свою комнату, он, не раздеваясь, бросился на кровать и схватился за голову, застонал.
«Что я наделал, что я натворил, — билась мысль. — Дурак! Осел! Растяпа! Что же теперь будет?.. Что делать?.. Как же это получилось? Кто из нас виноват?..»
И от бессилия поправить положение он разрыдался…
Уральцев свое слово сдержал.
Работая один в конце пасеки, он два дня подряд валил тонкий лес — «карандаш», очищая рабочее место от мелколесья, готовясь дать рекордную выработку.
«Пусть я эти дни дам меньше обычного, — рассуждал он, — зато послезавтра…»
И он уже представлял, как будут злиться Татьяна, Верхутин, Веселов.
Лесорубы поняли намерения Николая.
— Гриша, — беспокойно говорили они Верхутину, — в галошу ведь сядем!
— Не волнуйтесь, ребята, — успокаивал звеньевой. — Даст он день-два и выдохнется… Сами не подкачайте.
На третий день началось…
Сосны, ели, пихты со стоном и грохотом валились одна за другой по всей делянке; заглушая друг друга, стучали топоры сучкорубов; прерывистым жужжанием подпевали им электропилы.
— Разошелся Николай, — говорили между собой лесорубы.
— Черти, не отстают от меня! — глядя на работу товарищей, злился Николай.
До обеда он ни разу не присел отдохнуть, некогда было вынуть платок и вытереть обильно умытое потом лицо. Едва кренилось спиленное дерево, как он в несколько прыжков перебегал к следующему, быстро подтягивал кабель, включал электропилу и, сделав подпил, выбивал клин топором. Жужжала электропила, режущая цепь легко и быстро углублялась в ствол с одной стороны, с другой, потом поворачивалась параллельно под пилу, и вскоре лесина, распластав ветви, лежала, поверженная, на земле.
К обеденному перерыву на делянке Верхутина появились директор, замполит, технорук. Следом за ними, в помощь Русаковой, пришел за древесиной второй трактор — Таня одна не успевала вывозить. Она задорно улыбалась товарищам:
— Давайте, давайте, ребята, докажем Николаю, что мы звеном работаем лучше его!
А вечером, радостная и взволнованная, Зиночка Воложина торопливо выстукивала на машинке приказ директора и улыбалась. Да, Николай сдержал свое слово, он стал опять знаменит! Одно лишь омрачало Зинину радость — Николай к ней больше не заходил.
«Ничего, — успокаивала себя она. — Занят он был эти дни — к рекорду готовился. Наработается за день, ему и не до меня».
А как ей хотелось встречи, как хотелось быть с ним!
…Утро. Лесорубы собираются у клуба, ожидают машины.
— Что случилось с директором, — удивляются они, увидев Заневского, — вчера весь день почти на нашем лесоучастке был, сегодня в такую рань сюда пришел?
— Наверно, гвардии майор расшевелил, — высказывают некоторые предположения, заметив подходящего к директору Столетникова.
— Замполит кого хошь расшевелит, — поддерживали другие и подходили к трибуне.
— Товарищи лесорубы! — покрывая шум, выкрикнул Заневский. — Вчерашний день на вашем лесоучастке ознаменовался двумя рекордами. Звено Верхутина заготовило и вывезло полторы дневных нормы, а лесоруб этого же звена Уральцев дал Родине двадцать восемь кубометров строевого леса!.. Звено Верхутина показало, что не только отдельные лесорубы могут работать по-стахановски, но и коллективы. Желаю успеха вам, товарищи, и объявляю благодарность, а Уральцева премирую отрезом на костюм!..
— Ну, что, милая, — насмешливо улыбаясь, сказал Николай стоящей невдалеке Татьяне, — кто от кого отстал?
«Ах, вот как, — возмутилась Русакова, — ты только из-за этого и старался, чтобы мне доказать?» — И Таня, — она потом сама не знала, как это получи-лось, — крикнула:
— Вы поспешили с премией, товарищ директор, — раздался ее звонкий голос, — сегодня-то единоличник вполовину меньше сделает!
Лесорубы зашумели: одни — возмущенные дерзкой выходкой трактористки, другие — поощрительно. Таня с мольбой посмотрела на Верхутина и Веселова, ища поддержки.
— Правильно, Таня, — шепнул ей Григорий и крикнул, повернувшись к трибуне: — Мне сказать разрешите, товарищ директор!
— Товарищи! — начал Верхутин. — Правильно сказала Русакова, назвав Уральцева единоличником. Он откололся от звена, отказался от нашей помощи, не послушал наших советов. Вчерашним рекордом он никому не принес славы — ни себе, ни звену. Несколько дней подряд рубить лишь «карандаши» и едва выполнять норму, а потом приняться за толстоствольный, кубатурный лес — это каждый сможет! Если сложить его ежедневную выработку со вчерашней и разделить на рабочую неделю, то получится понятная каждому картина. В результате он обманул только себя…
— Ве-ерна-а!
— Это не рекорд! — раздались голоса, и лесорубы зашумели.