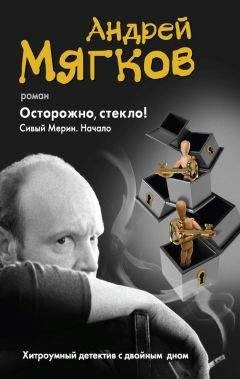Проходил мимо Никита Суриков и, стукнув балодкой в дверь, кричал:
— Ефимка, что не дрыхнешь?
— Читаю!..
— Ну, читай…
Суриков уходил. До полуночи он то тут, то там постукивал в доску, а потом заваливался спать, предварительно успокоив себя: «Куда что денется — кому-то надо!»
Однажды к Ефиму пришла Наталья. Она осторожно постучала в дверь и спросила:
— Не спишь, Ефимушка?.. Открой-ка!..
Ефимка обрадовался. Он удивленно спросил:
— Ты разве не уехала?
— Нет, чего-то не поехала… Скучно… У нас все уехали. Семен где-то еще здесь — тоже не уехал.
Она села на чурбан к печке. В избе было дымно, жарко, через открытую дверь с неба смотрела яркая звездочка. Ефимка бестолково перелистывал книжку.
— Давай, Ефимушка, почитай, я послушаю. Ты хорошо читаешь.
Мальчик добросовестно принялся за чтение. Наталья, облокотись на колени, не сводила с него глаз.
— Понимаешь, ты, про что прописано? — спросила она.
— Ага! Понимаю, — шмыгнув носом и тряхнув вихрастой головой, уверенно ответил Ефимка.
— Мне вот кажется, что в книжке все какие-то недомолвки. Ты вот читаешь про людей, и вижу я их, как живых, будто я их давно знаю, будто разговаривала с ними когда-то, а вот речи ихние непонятны мне. Чего-то в них не хватает. Иной вот хочет сказать правду… Вот так и ждешь, что он обольет правдой, как кипятком, а потом смотришь — не говорит, не скажет правду… Или впрямь люди привыкли недосказами жить, или пропечатывать не позволяют?
Наталья задумчиво смотрела в печку, где тлеющие угли, прикрытые тонким налетом пепла, светились золотой кучей. Они освещали розоватым светом лицо Натальи и отражались в черных глазах рубиновыми искрами.
Ефимка, положив подбородок на ладони, слушал Наталью, не понимая её, но чувствуя в ее словах грусть.
B двери влез Смолин. Он сел на порог и раскурил трубку.
— А мне так все понятно, — сказал он, — люди о правде только думать привыкли, а говорят о ней по за-угольям… Интересный у вас разговор… Я давно слушаю, как вы тут беседуете.
— А зачем так, Семен?
— Ну, зачем?.. Очень просто. Потому — люди привыкли жить в кривде. Народишка так привык врать, что это для него слаще меду кажется и выгодней. За правду пойдешь — себе навредишь, а кривдой-то хлестнет, как кнутом, — жизнь и бежит впритруску.
— Не знаю, — отвечала Наталья, опустив глаза в землю. — Я вот видела одного человека — приходил он к нам на рудник. Испугалась я тогда. Похож он был на бродяжку, а глаза у него добрые, добрые! Да ласковые такие. Встретил он меня в лесу одну и ничего… Я спросила его: «Почему, мол, ты бродяжишь?..» И испугалась, что спросила, жалко мне его стало. Он как-то удивленно на меня посмотрел, вздохнул и говорит: «Ничего ты не знаешь… Правду ищу», — говорит. А потом такую он мне правду сказал! Сроду я таких речей не слыхала, и страшно стало и как-то хорошо. Не расскажешь всего, что он мне говорил, так все понятно, и чем больше он говорил, тем светлее и теплее у меня делалось на душе. Эх! если бы это все случилось!
Наталья замолчала.
— Про что он тебе говорил? — прищурив глаза, спросил Семен.
— Ой, нет… Боязно… Страшно про это говорить. Только после этого, вот когда одна, так делается радостно. Вот чего-то как будто ждешь — думаешь, вот завтра что-то должно случиться. А когда на людях, так хочется… Какая-то досада на людей…
— Едак, — выколотив трубку, протянул Смолин. — А чего все-таки он тебе говорил?..
— Не знаю, как тебе рассказать… Вот и сейчас думаю об этом, так сердце как-то по-иному колотится.
Наталья на минуту смолкла. Она точно решала, говорить или нет. Потом, отбросив со лба непослушную прядку волос, сказала:
— Говорил, что мы живем обманутые… Обман, говорит, все, и царь, говорит, не царь, а ворог наш…
— Едак… — еще громче согласился Смолин. Глаза его, озаренные золотым блеском тлеющих углей, как-то страшно зажглись. Он порывисто выдернул из кармана кисет, набил трубку и закурил.
— Последнее время подходит, что ли? — так же задумчиво, глядя в печь, продолжала Наталья.
— Едак, едак, Наталья Федоровна, — правильно говоришь, что последнее время подходит… Это время уйдет, и народишка евонный вместе с ним уйдет, и мы с ним за компанию уйдем, и на место его новое время придет, и люди новые народятся. Эх, ядрена гуща… Слыхал я эту музыку-то, Наташенька! Шибко она гожа, только люди ее никак не могут уразуметь. Они свою правду учинили такую, которая для них выгодней.
— Ничего-то мы здесь в лесу не видим, не слышим ничего не знаем.
— Ну, как? Мы видим — Макарку с Яшкой, двух пауков… А так, правду говоришь… В лесу родились, пню молились, венчали нас вокруг ели, черти пели, рождены, видно, только для того, чтобы робить да спать, жрать одежду драть да винище лопать.
— А зачем так! Ты вот дельный мужик, а…
— Все мы дельные, если нас к настоящему делу приставить!
— Почему-то вот так выходит, что ни дельный — то и пьяница.
— Скучно, Наталья! Робишь, робишь — надоест… Ну, думаешь, что мол, ядрена гуща, и свинье бывает в году праздник. Ну, и рванешь!
— Я недавно читал книжку, как царь вином торгует, и картинку видел, — неожиданно сказал Ефимка.
— Чего-о, чего ты сказал?..
— Я… Я читал… В книжке, — смутился мальчик.
— Где ты ее взял?..
— Нашел…
— Врешь… Дали… И знаю, кто дал… Эх ты, сопля голланская, — строго проговорил Смолин, — смолоду привыкнешь душенкой кривить! Смотри, язычишко-то придержи, — с тебя горсть волос, а человека упечатают.
— А по мне, так все нужно говорить, что знаешь!
— Только не везде и не каждому, потому еще время не пришло. Ты говори, что угодно, — твое дело, а углану этому еще рано про такую штуку говорить.
— Ну, ладно, давай, Ефимушка, читай, — сказала Наталья, — что там дальше-то?.. Вышла она за него замуж или нет?.. Ты там прочитал, что она ребенка родила…
Семен поправил дрова в печке. Они вспыхнули, затрещали, а огонь в железной трубе загудел. Мальчик громко, чеканя каждое слово, читал, а Наталья, опершись локтями на колени, приподняв брови, внимательно слушала. Вдруг брови ее дрогнули, глаза блеснули слезами. Семен улыбнулся:
— Ну и дуры бабы… На мокром месте у вас глаза посажены. О чем это ты нюни-то распускаешь?
— Жалко… Видишь, ваш брат только поиграет девкой, а потом…
Она оборвала свою речь и замолчала.
— Дура!.. Что в книжке написано, все это придумано.
— Что, что придумано? Все это правда! — Все это бывает, все есть…
— Ну и что же?.. До тебя еще не дошло…
Наталья густо покраснела.
— Обидно! Рожают ребят мужние жены, а как девка родит, значит — позор. Разве она виновата?..
— Опять дура, — то баба, а это девка… Баба хоть приблудила, да она законом покрыта, а девка без закона…
— А ребенок разве виноват?.. Он, может, вырастет, лучше всех человек будет.
— Бывает, — задумчиво ответил Смолин, выколачивая трубку. — Помню я подкидыша одного… Пригульный был парнишка, поэтому и подбросили. Околел бы парнишка, ежели не подобрал бы его тут один рабочий с медного рудника. Принес он его домой и говорит: «На-ка, жена, воспитывай…» И сразу у них жизнь переменилась. До этого оба запоем пили. Бывало, как задумает Кирсаныч пировать, дня за три готовится. Инструмент свой в порядок приводит и по порядку его в верстак укладывает. Слесаря уже знали привычки Кирсаныча, говорили: — «Что, Кирсаныч, надумал?..» А он покажет на глотку, ответит: — «Тошно, червяк начал сосать»… Слыхал я, что у запоиц винный червяк в брюхе заводится. И как только оголодает, сейчас к горлу приступит и стребует. Ну, вот и у Кирсаныча тоже, наверное, этот червяк был. На третий день запрет он свой верстак на замок, ключ спрячет, а потом еще гвоздями ящик забьет, снимет шапку и скажет: — «Ну, товарищи, прощевайте, — пошел!» Начальство тоже знало, — не обращало внимания на это, потому он мастер был хороший. И вот придет домой, ставни на запор, ворота на запор, и оба с женой катят недели две. Напьются, выспятся, и опять он робит, а она в церковь каждый день — молится. И вот, как принес он этого парнишку, как рукой сняло. Не стали пировать. Бывало, где пируют рабочие, так он убежит… До шестнадцати годков они все его учили, а потом он сам пошел в гору, да такой парень вытесался, просто любо. Просто не то что, а вот что! Бывало просьбу написать — он. Рабочему в чем-либо совет дать — он. Везде… И все у него как-то спорилось. Просьбу какую-либо сочинит, так у него слово к слову, как пришпиленные. Смеялись над ним сначала: — «Эй ты, приблудный! Эй ты, подшвырыш!» А потом, брат, ему и имени больше не было, как Виталий Федорыч. Умница был, да кончил плохо.
— Как?
— А просто зря сгинул, в тюрьме сгноили. За политику, что твой бродяжка тот.
Наталья грустно опустила голову, задумалась. Потом стерла слезу и сказала: