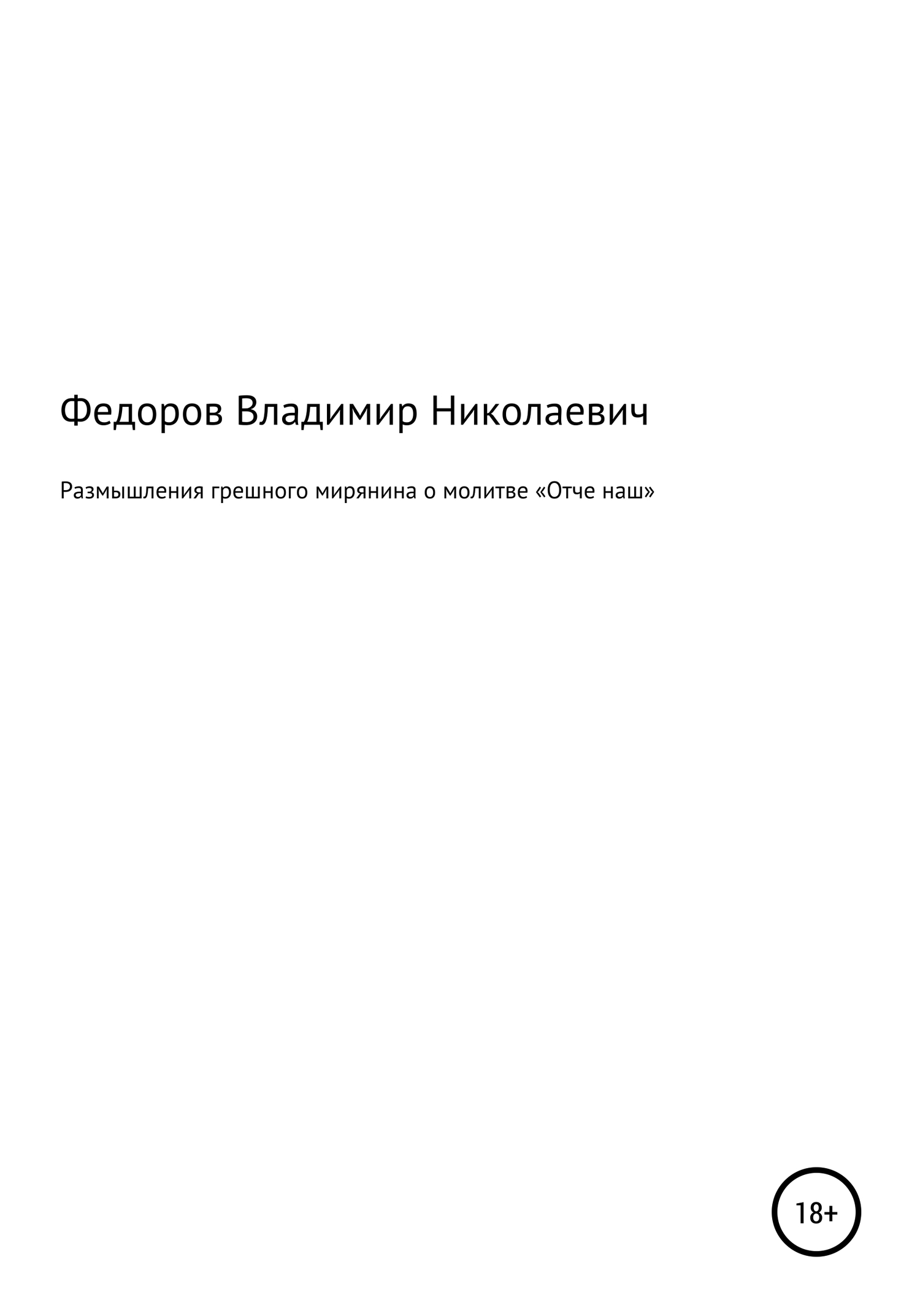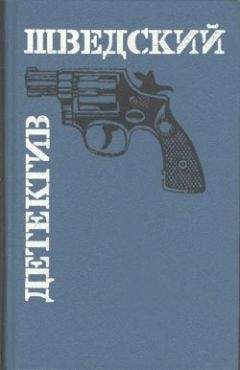удара. Падая, с силой ударился виском о массивную железную кромку печной дверцы. Последнее, что увидел он, было: вскочивший Филарет надвинулся, наклоняясь над ним в испуге, и руки его, прикоснувшиеся к Алешкиной голове, были почему-то в крови. И еще Алешка успел вяло подумать, чувствуя, как меркнет день, что бог вовсе не свет, а колеблющаяся, наплывающая звенящими волнами, густая тьма, скрывшая ее — любимую, милую маму…
«Едва ли догадаются искать так близко, — размышляет Филарет, забыв о вздохах мечущейся в соседней комнате Аграфены. — И все же надо быть осторожным…»
Мысли его касаются несчастья в доме Лыжиных, он привычно соображает, как лучше воспользоваться создавшейся ситуацией. Состояние души Аграфены — ясное, она готова к утешительным беседам о том, что лишь верящий сердцем в господа бога найдет спасение духу своему среди братьев и сестер во Христе. И с дочерью надо побеседовать. Момент самый подходящий — смятение, боль должны быть в душе ее. Ребятишек они сами приобщат к делу, натолкнет он их потом на это…
«Что ж, нет худа без добра, — удовлетворенно думает Филарет, снова услышав стенания Аграфены. — Кто через мучения придет к вере в господа — не отрешен от нее будет до самой смерти. Что же в Корпино сейчас делается? Узнаю завтра, наведаюсь к старшему брату Василию, ему известно должно быть. Из наших-то никто не знает, где я…»
И неожиданно вспоминает Лушку, какой видел ее в прошлые приезды сюда, к Лыжиным. Веселая, жизнерадостная, рано — как обычно в простых полурабочих семьях — понявшая, что она рождена быть прежде всего женщиной, Лушка уже тогда с любопытством посматривала на него, Филарета. Что ж, эти заинтересованные взгляды были понятны ему: знал он, что женщинам может быстро понравиться.
«Интересно, какова она сейчас, — таинственная мечта отозвалась в лице сладострастной улыбкой. — Старею… О молодых начал размышлять…» — и тяжело вздохнул.
Он сладко потягивается, выискивая удобную для тела позу, и незаметно снова задремывает.
Уже то, что дверь открывает Устинья Семеновна, а не Любаша, удивляет Андрея. За его отсутствие здесь что-то, видно, случилось. Но по голосу Устиньи Семеновны не может понять: хорошее или плохое…
И лишь тогда, когда она сама стала подавать ему на стол, сердце дрогнуло: вероятно, хорошее. Но почему Любаша лежит, отвернувшись к стене, плотно укрытая одеялом?
Прежде чем сесть за стол, Андрей достает из кармана пачку денег и, отсчитав, что должен Устинье Семеновне, кладет на клеенку.
— Вот, зарплату выдавали сегодня…
— Ты погоди-ка с этим-то, — останавливает его Устинья Семеновна, но тут же забирает и прячет в карман кофты хрустящие бумажки: — Ладно, все равно на свадьбу-то вместе будем расходоваться.
— На свадьбу?! — Андрей шагает к ней: — Так значит… Устинья Семеновна, вы согласились, что…
— Садись, садись-ка да ешь! — обрезает Устинья Семеновна. — А там потолкуем обо всем полегоньку. Аль не согласен уже свататься к Любке? Испортил девчонку, а теперь — в кусты? Нонче ведь так…
— Ну что вы, Устинья Семеновна! Да я… — он не находит слов и никак не может справиться с подрагивающими губами, расползающимися в радостную улыбку.
— Мама! Правда? — вдруг слышится от койки. Любаша в одной рубашке, возбужденно поблескивают глаза. Отброшенное одеяло лежит на полу.
— А ты чего, срамница этакая. Прикрой тело-то хоть, — прикрикивает Устинья Семеновна, но Любаша бросается к ней, судорожно обнимает и шепчет, всхлипывая:
— Я так и знала, мамочка, что ты у меня хорошая, добрая… Самая добрая и хорошая на свете, мамочка моя… Видишь, Андрей? Я же говорила!
— Ну, будет, будет… За жизнь-то еще наплачешься, — говорит Устинья Семеновна размякшим голосом, тоже, видимо, растроганная. — Давайте-ка без слез обсудим все. Забот-то много с этой свадьбой на материны бока навалится…
Сквозь сон Андрей слышит скрип комнатной двери. Кто-то проходит к койке и, помедлив, трогает его за плечо. Он открывает глаза и встречается с испытующим, внимательным взглядом Устиньи Семеновны. Она стоит близко, на один шаг от койки.
— Проснулся? День на дворе-то, этак немудрено и свое счастье проспать.
— Кажется, только что уснул, — бормочет Андрей, натягивая одеяло на плечи.
Присутствие Устиньи Семеновны сразу напоминает о вчерашнем, и на душе становится легко и безмятежно.
— Слышь-ка, Андрей… Не поможешь нам картошку на базар подвезти на тачке? Четыре мешка, вдвоем-то с Любкой тяжеленько будет.
— На базар? Ах, да… — Андрей вспоминает, что в половине девятого Кораблев и Лагушин будут ждать его на автобусной остановке. На инструктаж в горотдел милиции им ехать надо. — На тачке долго провезем, вот если бы на машине? Погрузить, и ребята бы мои помогли.
Отказаться прямо — по той причине, что с картошкой заниматься сейчас просто некогда — неудобно. Но и тащиться с тачкой два-три километра, в то время, когда ясно сказано — сбор в девять, в горотделе! — тоже нельзя.
— Где ж машин-то для четырех мешков наберешься? — разводит руками Устинья Семеновна. — Четвертную отдай, а наторгуешь ли столько? А мы часикам-то к десяти успеем на базар, раньше и не надо. Рано торгуют те, кому сильно приспичило, а мы — вовремя.
Андрей морщится, соображая, как выйти из трудного положения, чтоб Устинья Семеновна не обиделась. Скажет, попросила первый раз, и уже — вот тебе на!
— А может, и ребята твои помогут? Кто такие они?
— Да так, товарищи…
— Аль собрались куда вместе? — допрашивает Устинья Семеновна, уже без прежней улыбки.
— Патрулировать на толкучке нам поручили, спекулянтов ловить.
— Так вы, чай не в милиции служите… Что-то не пойму я, — качает она головой, подозрительно оглядывая его.
— Да нет, — улыбается он, — дело общественное, по комсомольской линии.
— А-а, — тянет Устинья Семеновна. — Ну, тогда и плюнуть на это дело можно. Кто-то денежки получает, а вы за них спекулянтов гоняй.
— Плюнуть нельзя, нехорошо будет, — говорит Андрей, глянув на часы. — Ого, уже десять минут девятого! Пора и собираться мне.
Устинья Семеновна холодно кивает:
— Ну, как знаешь… Неволить не хочу…
И выходит, хлопнув дверью, отчего та снова приоткрывается.
«Фу, черт, положеньице создалось… И рад бы помочь, но как?»
Он свешивает ноги и садится на койке, поглядывая в окно. До слуха доносится приглушенный говор, затем громкий вскрик Устиньи Семеновны:
— Пойдешь, я говорю! Ишь, мамзеля…
— Мама, но я не хочу, пойми ты! — возражает Любаша. — К чему все это затевать? Сами довезем…
— Иди, иди! — прикрикивает Устинья Семеновна и после молчания тише добавляет: — Ослушайся только, косы выдеру! Ишь, принцесса какая, съест он тебя, что ли? Да поласковей с Ванюшкой-то будь, от мужика что хошь лаской добьешься.
Любаша что-то говорит, Андрей не может расслышать, но зато громкий голос Устиньи Семеновны звучит отчетливо:
— Андрюша обидится! — передразнивает