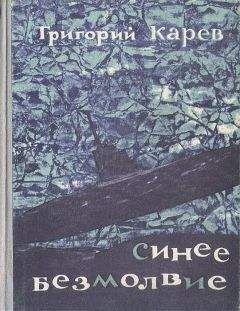— Простите, Игорь Николаевич, сколько вам лет?
— Старик. Двадцать пять стукнуло.
— Ну, старик, — улыбнулся Аким Сидорович, — покажи нам образцы новых минеральных удобрений.
Секретарь парткома Полюшкин предложил заседание бюро прервать до двух часов дня. Кабинет опустел. Минут через десять Игорь Задольный в лаборатории показал образцы новых удобрений. После проверки их на процентное содержание азота, фосфора Акиму Сидоровичу хотелось назвать Задольного героем, но «модная» привычка, родившаяся в министерстве за последние годы, сдерживаться до последнего взяла свое. И не только взяла, посоветовала не торопиться, доложить вышестоящему начальству, выслушать его мнение и после одобрений, если таковые будут, скромненько высказать свою точку зрения.
Химанализы обогащенных удобрений подтвердили точность каждой формулы Задольного. Аким Сидорович распорядился новую технологию немедленно зарегистрировать в Государственном комитете по научным открытиям и изобретениям при Совете Министров СССР.
— Мы это мигом! — засуетился Пилипчук. — Утречком с первым поездом отправим человека в Москву.
Чужие успехи всегда раздражали Осокина. В такие минуты он чувствовал себя как будто обворованным, приниженным, попусту растратившим лучшие годы жизни на летучки, мобилизации, призывы… Но дело государственной важности, рожденное на возглавляемом комбинате, подсказало Осокину, что таким событием можно не только затемнить каверзный случай в цехе аммиака, но и как-то прославиться, чуточку обогреться у чужого костра, и Андрей Карпович с холодной улыбкой на лице пожал руку Задольному.
Дородная женщина в белом халате скалой встала на пути Задольного.
— Я на минутку! — умолял Игорь. — Только на одну минутку!
— С трех до пяти!
Толстая женщина перед самым носом Игоря захлопнула дверь. Он потоптался на заснеженных порожках и опять свое:
— Я только на минутку!
— Шоб ты сказывся! Прилип, як той репьях! Разогрешит главна — проходь.
— Главная? Я ей звонил по телефону. Она разрешила подъехать.
— Ох и настырный! — немного смягчилась несговорчивая женщина. — А ты, хлопец, не брешешь?
— Я?!
— Сама зараз спытаю.
Задольный выждал, когда неумолимый страж скроется за поворотом коридора, быстро прошмыгнул на второй этаж и у первой встретившейся больной спросил:
— В какой палате лежит Аня Подлесная?
— Молоденькая такая? Беленькая, да?
— Она.
— В десятой.
Игорь, озираясь по сторонам, бочком вошел в десятую палату. Аня лежала на кровати у окна. Он на цыпочках подошел к ней и положил на тумбочку коробку конфет.
— Это ты? — Аня открыла глаза. — Как там наши?
— Все хорошо. — Игорю хотелось чем-то утешить, подбодрить Аню, но как это сделать, он не знал и, чуточку краснея, пообещал: — Я буду каждый день к тебе приходить.
— Честное слово?
— Аня!..
— Маме ничего не сообщайте. Половину моей зарплаты перешлите ей сегодня. Она собиралась кое-что купить сестренкам.
— Хорошо.
— В институт я курсовую по технологии не успела отправить. Она в общежитии, в тумбочке. Если можно, проверь последние расчеты и, пожалуйста, отправь.
— Все будет сделано…
Тихий, успокаивающий голос Игоря Ане показался давным-давно знакомым. Ей хотелось взглянуть ему прямо в глаза, но проклятая застенчивость и боязнь выдать тайну сердца одержали верх над желанием, и она порозовевшим лицом уткнулась в подушку.
— Больно? — наклоняясь, спросил Игорь. — Потерпи. Врачи уверяют, что все будет хорошо. Принести тебе молока? Ты не стесняйся…
Игорь решился шепнуть еще одно слово, но не успел. В палату, переваливаясь с боку на бок, бесшумно вошла толстая женщина и, всплеснув короткими руками, выдохнула:
— Вот бисов сын!
— Я сейчас! — заторопился Игорь. — Я сию минуту…
— Геть![1]
Игорь, отступая к двери, кивком головы простился с Аней. Она смотрела на него чистыми, доверчивыми глазами, словно хотела сказать о самом главном, которого так не хватало в жизни Задольного.
— Геть!
Игорь с опущенной головой вышел из больницы и, проклиная сварливую женщину, зашагал по людной улице.
Дорога к дому Задольному показалась удивительно короткой. Он, не замечая знакомых, которые с ним здоровались теплее обычного, шагал с высоко поднятой головой и проклинал себя за слепоту: «Три года она была рядом!.. Чурбан я бездушный!..»
Запас ругательных слов у Игоря быстро иссяк. Он, обзывая себя распоследним дураком, вошел в квартиру, присел на раскладушку и, чего раньше с ним не случалось, посмотрел на свою жизнь как бы со стороны.
Молодость. Несет она человека по жизни, как застоявшийся конь седока по широкой степи. Несет ширококрылая, и нет ей дела, нет печали остановиться на полном скаку, чтобы седок всеми мускулами ощутил вылет из седла, чтобы научился как можно раньше крепче держать в руках свою судьбу.
Личная жизнь Игоря, казавшаяся еще вчера простой и ясной, стала перед ним раскрываться во всей сложности, которую он неожиданно начал читать, точно мудрую книгу с десятками трудных и суровых страниц. Каждая глава этой книги помогала Задольному разобраться в окружающих людях, понять их слабинки, хитрости, честно оценить свои поступки и способности.
«Осокин — хитрюга и грубый дипломат. Хитрости у него, конечно, больше. Работать рядом с таким человеком опасно и противно. Он в трудную минуту думает только о своей шкуре…»
Бой стенных часов прервал мысли Задольного. Он разделся, поставил будильник на табуретку, стоявшую рядом с раскладушкой, и решил немного уснуть. Сон, как назло, не приходил.
«Пилипчук — человек изворотливый, тонкий. Своего благополучия он достигает мягкостью, вежливостью, улыбкой и гибкостью позвоночника».
Игорь поднялся с раскладушки, принял душ и, немного успокоившись, рассудил:
«Настоящий человек вечно стремится к прекрасному. И, естественно, бывает до поры до времени ослепленным счастьем жизни. И это не случайно. В семье, школе, на фабриках, заводах… всюду человека воспитывают на хороших примерах. О пошлых людишках у нас говорят мало и скупо. А они, пользуясь благоприятной обстановкой, живут рядом с нами своими мелкими страстишками и до первого испытания на прочность остаются незамеченными».
Думы о жизни заставляли Игоря сравнивать людей, присматриваться к ним со всех сторон и выносить им суровый, но честный приговор.
«На последнем курсе института я познакомился с Ириной. Чем же она мне понравилась? Аккуратностью? Нет. Глубоким знанием жизни? Нежностью и сердечной теплотой? Нет. Она часто упрекала меня в простоте, советовала застегивать душу на все пуговицы, не быть слишком откровенным, доверчивым. Но где? Где же, черт меня подери, я живу? Если слушать Ирину, станешь похожим на кого угодно, только не на русского человека. Я, конечно, дурак, с ней во многом соглашался. А как она относится к людям? Боже мой!.. На каждого человека смотрит рационалистически: чем он может быть полезен? Свои взгляды на жизнь она с какой-то въедливостью старалась прививать и мне. И не только прививать, но и добиваться их расцвета. Рядом с ней я был теленочком на веревочке. Стоило мне в компании рассказать соленый анекдот или на улице громко засмеяться, Ирина прищуривала выпуклые глаза, подернутые туманной грустью, и, покачивая античной головкой, с еле уловимым цоканьем в голосе замечала: „Не этицно!“ Но почему, почему она мне нравилась? Почему я пишу ей письма и приглашаю в Яснодольск?»
Воспоминания о прошлом помогли Игорю увидеть Ирину как бы снова, но увидеть глазами уже не того студента, который рядом с ней казался учеником. Он посмотрел на нее глазами человека, кое-что познавшего в жизни.
«Кто же ты, Ирина? — думал Игорь. — Хитрая невеста, мечтающая стать женой хотя бы лысого аспиранта. А я, дурак, приглашаю ее в Яснодольск…»
Задольный вскочил с раскладушки, вынул из кармана пиджака ответ Ирине, изорвал его на мелкие клочки и, выбросив в корзинку, обрадовался: «Хорошо не успел отправить! Ей, обнищавшей душою, терять уже нечего. Соберет чемоданчик и прикатит. Вот тогда-то попробуй расхлебаться!..»
Мысли об Ирине Златогорской у Игоря как-то незаметно отступили на задний план. Он, легко вздохнув, снова прилег на диван и с радостью подумал о Гае:
«С такими людьми, как Иван Алексеевич, и в огне не сгоришь, и в воде не утонешь».
…Усталость окончательно сморила Задольного, и он не заметил, когда уснул.
Мария Антоновна защебетала так радостно, точно ласточка, возвратись из стран заморских в родное гнездо.
— Мы сами! Сами разденемся! — протестовал Вереница. — Ты нам, Антоновна, чайку по стаканчику. Нашего. Студенческого.