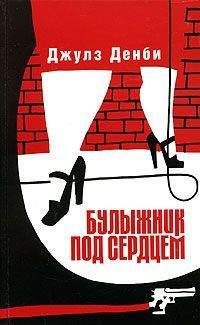Ведь завтра, в понедельник, думал он, большинство из сослуживцев просто не поверит, что он провел выходные в Лондоне. И правы будут, говорил себе, потому что пока еще всем нам трудно привыкнуть к таким стремительным перемещениям…
Он принялся перебирать случившееся с ним и сразу (и вновь!) уткнулся в Митю, который звал его в далекое прошлое — «да, в сорок первый…». Вспомнилось и о булыжнике в груди, о том, что, кажется, он побывал т а м, в запредельной дали, откуда едва вырвался и лишь благодаря неимоверным усилиям воли, железной решимости все же исполнить святой долг, ради чего и летел в Лондон.
Он вспоминал об этом теперь без испуга, без страха за будущее, в котором все пережитое им с пятницы на субботу вновь может повториться. Теперь уже э т о его не пугало, потому что он просил у Того лишь об отсрочке. Теперь же он был готов и к самому худшему. Но чувствовал, знал, что Тот не станет предъявлять векселя, так как он, Взоров, сполна исполнил долг во имя жизни — «нет, не собственной, а вообще жизни…».
Такое понимание бывшего с ним успокаивало Взорова. Он вдруг вспомнил и подосадовал на себя, что в речи начисто запамятовал о н у л е в о й д о л г о т е. Ведь специально побывал на Гринвичском меридиане, смотрел с холма Лондон, представил непоправимое — черную пустыню после взрыва, всеобщую смерть…
Ну как же так? — возмущался он. Взял да забыл? Однако, думалось, может быть, и к лучшему? Ничего ведь не бывает случайного? Наверняка, запутался бы в сравнении, затянул бы речь, а люди, когда их тысячи, требуют краткости и ясности. Значит, все так и должно было быть!..
А какие у Эвелин розы! — подумалось и об этом. Как она хотела, чтобы захватил букет в Москву! Для Лины…
«Жаль, Линочка, — принялся разговаривать с ней, — не сообразил сразу. Уж прости глупого! Не поверишь, сколько пришлось пережить за этот уик-энд. И увидеть, и почувствовать. Ну, можешь ли ты представить?.. Да мог ли я и сам представить! В общем, Линочка, прокатился на паровозе Стефенсонов! А, каково? Да, да, да. На самой настоящей «чудо-печке». Как в сказке, поверишь ли? И ощущение, будто перенесся в прошлый век. Истинно! Вот те крест!.. как клялись в детстве. Ладно, креститься не буду, хотя меня тут так прихватило, что невольно вспомнил о Нем. Куда уж деваться, когда безысходное положение? Помог бы только… Вот так всегда: вспоминаем о сверхъестественном, когда впадаем в бессилие. Ну да ладно! Что уж об этом?..»
Взоров прервал свой мысленный монолог, вспомнив о том разговоре с Ветлугиным, когда они коснулись с т е п е н и р о д с т в а. Отчего-то к этой теме в последнее время он постоянно возвращался. Случайно прочитанное не давало покоя. Он сопротивлялся прямому смыслу — о родстве по крови. Ему казалось, что понятие крови — метафизическое, устаревшее. Но Ветлугин его смутил, употребив выражения народной мудрости, утверждавшиеся веками, из поколения в поколение, — родная кровь, родная душа, историческое родство. А в этом обязательно должна присутствовать степень — «математическая ли, метафизическая ли, а вернее всего — духовная…».
Но он все равно сопротивлялся, настаивая и перед самим собой, что главное — родство п о у б е ж д е н и я м. И доказывал — и себе, и Ветлугину, и кому угодно, что вот тот же митинг: если убеждены в одном и том же — значит, родство! Или: Дарлингтон (в нынешние годы) ему так же близок, как и Митя Ситников (в детстве, юности, на войне), хотя один родился в соседнем доме на берегу Оки и был дальним родственником, а другой — в Ливерпуле, на берегах Ирландского моря… Или вот Лина… Или вот Лина… Мысль вдруг запнулась.
— Слушай, Виктор, — спросил Взоров, — этот рейс токийский?
— Да, — подтвердил тот.
— Как думаешь, в Москву прилетит вовремя?
— Если вовремя улетит.
Взорову хотелось объяснить Ветлугину, что в Москве его будет встречать Лина, но решил: лучше не посвящать «крестника» в личные обстоятельства.
Значит, Лина… Лина, Лина, Линочка… И вдруг мысль вспыхнула, затревожила: с кем же в д в о е м она будет встречать его в столь поздний час? Не с помощником же? Не с Пережигиным же, Георгием Семеновичем? Хоть он предан ему, и всегда готов, но они не договаривались… Неужели она беременна?!
Волнение перехватило горло, сердце застучало, как метроном, — слышно, ощутимо, беспокойно. Вот почему, сказал себе, привязалась эта самая степень родства — родная кровь, родная душа… Надо решать! — строго потребовал от себя. Решать обязательно! Хватит сокрытий, затаенности. Зачем же так-то жить? Жить надо открыто. Радуясь!
Прояснившееся решение успокоило Взорова. Он стал с нежностью думать о Лине и о н е м, уже возрастающем, о ребеночке. Он чувствовал, как его заполняет сила, могучесть — «и могу, и честь!». И радость, и готовность взрастить нового человечка, таким, каким — теперь-то он знает! — должен быть вообще человек. А назовем его, мечтал Взоров, тем редким именем, тем редким славянским именем, которое однажды встретил, очень давно, а помнится всю жизнь: если мальчик — Радомиром, если девочка — Радомирой. То есть: радующийся миру, радующий мир!
И опять, но уже в душевном просветлении, в ладу с собой и со всем человечеством, Взоров подумал об этом навязчивом родстве, однако, с неожиданной стороны — как о л ю б в и. И чем ближе эта самая степень, тем больше, выходит, любви, понимания, терпимости. А чем дальше, тем чаще — непонимание, нетерпимость, н е н а в и с т ь. А ненависть, сказал себе, это разъединение, разрушительность.
«Как все упрощается, сводится к самому простому — к любви и ненависти», — с удивлением подумал он, постигая эту вечную истину.
— О чем вы все шепчете, Федор Андреевич?
Взоров смутился:
— Разве?
— Невнятно, конечно, — вежливо заметил Ветлугин.
— Ах, да так, размечтался, — сказал он с извинительной покорностью.
— Вам говорили, что весной проводится марш мира? — поинтересовался Ветлугин. — Через всю страну — от Абердина до Брайтона. А потом — международная конференция в Манчестере.
— Нет, не говорили.
— Ну считайте, что получили достоверную информацию.
— Спасибо, Виктор. Кстати, у тебя с собой конверт, который я тебе вручил в пятницу?
— Ой, Федор Андреевич, забыл на столе. Ведь специально приготовил! — посетовал Ветлугин.
— Ничего. Порви его. Думаю, что теперь не пригодится. — И засмеялся — довольно, уверенно: — Надо же, до чего наполненными оказались эти два дня — даже завещание успел написать! Порви его. — И опять с беспокойством: — Как думаешь, вылет не задержат?
— Не должны. Все-таки рейс токийский, лететь далеко.
— Я тоже так думаю, — сказал с твердостью, убежденно.
В аэропорту «Хитроу» Взоров быстро прошел таможенный контроль и сразу направился на паспортный: на токийский рейс Аэрофлота уже объявили посадку. Прощаясь, приказал «крестнику» стоять твердо, держаться крепко; обнял и поцеловал: он любил Ветлугина.
IV
Виктор вернулся на свой одинокий корпункт в грусти и задумчивости. После проводов соотечественников у него всегда появлялось чувство опустошенности и горечи. Особенно пронзительным оно было теперь — после прощания с Взоровым. Ведь Федор Андреевич был для него больше, чем пример для подражания, больше, чем родня. Ветлугин видел в нем олицетворение того, каким сам хотел бы стать, — смелым, настойчивым, неколебимым, бесконечно преданным долгу и щедро добрым к тем и тогда, когда и кому нужно. Да, он хотел, чтобы его, Ветлугина, и друзья, и враги воспринимали так же, как Взорова, — с всеобъемлющим уважением: кто любя, кто ненавидя, а кто и боясь. Он налил рюмку армянского коньяка из бутылки, початой еще в пятницу, выпил, пожелав Федору Андреевичу счастливого приземления. Потом взял конверт и хотел порвать его, как приказал Взоров, но что-то вдруг щелкнуло в сознании и пальцы окаменели. Поколебавшись, он вскрыл конверт.
ЗавещаниеВ случае моей смерти прошу похоронить в ограде могилы Дмитрия Матвеевича Ситникова на кладбище деревни Изварино, расположенной в Московской области на реке Соква. Местонахождение могилы известно Ангелине Николаевне Назаровой.
Это моя последняя и единственная воля.
Ф. А. Взоров.г. Лондон, 19 ноября…
I
В ночь на двадцать второе марта на Южную Англию, включая Лондон, упал густой туман: чернота превратилась в тусклую серость — вязкую, физически ощутимую, настолько плотную, что ближайший неоновый фонарь едва различался повислым бледным пятном. К утру со светом плотность ничуть не ослабла, лишь исчезла темная подкладка ночи, а туман превратился в непроницаемую белесую холстину. Ватная серость давила, как давят только стены тюрьмы: ничего не виделось, не желалось, и Джон Дарлингтон с тоской думал, что жизнь, в общем-то, прожита.