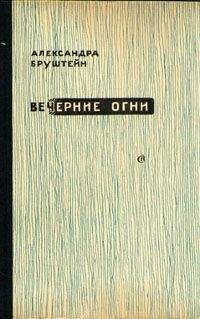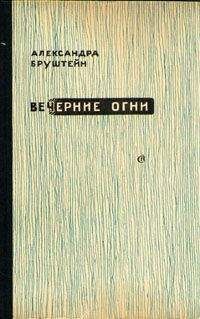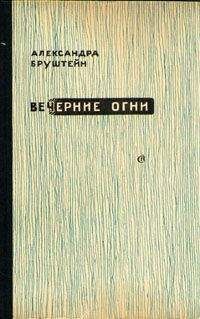Когда я вошла в то помещение, где они меня ждали, я сразу ослепла! Что-то мягкое, теплое, темное шмякнулось мне в лицо и заслонило весь мир. Это была шапка, обыкновенная зимняя шапка: в ожидании моего прихода ребята затеяли баталию шапками, и один метательный снаряд попал в лицо мне, входящей!
Эта шапка сразу разбила всякую возможность «льда» между мной и ребятами. Мне даже показалось на миг, что прилетела шапка из далекого прошлого, с репетиции какой-то «агитпостановки» в одном из первых ленинградских молодежных домов культуры! По ходу пьесы кто-то из исполнителей тогда требовал:
— Коня! Приведите мне коня!
И кто-то из ребят мечтательно произнес:
— Эх, живую бы лошадь… А?
Эту мысль мгновенно подхватили все! И через короткое время в репетиционный зал (на 4-м или 5-м этаже дома!) была торжественно введена живая лошадь!
Конь выглядел в этой обстановке несколько растерянно и даже глуповато. Конечно, он не мог знать, что он уже не первооткрыватель, что за много веков до этого дня один из венецианских дожей въехал верхом по парадной лестнице (всего только на 2-й этаж — экая малость!) прославленного в Венеции «Ка д'Оро» — «Золотого Дома». Но наш советский конь вел себя в зале довольно прилично, — может быть, оттого, что, поднимаясь по этажам, он успел уже чудовищно загадить всю парадную лестницу. Все смотрели на неожиданного гостя со все нараставшим сомнением. Всем становилось ясно, что конь, живой, натуралистический, ржущий и извергающий навоз, — не к шубе рукав в клубной агитпостановке, где все условно!
Коня увели с таким же веселым ором, как привели.
Случай этот остался в моей памяти. Как это было характерно для раннего комсомола! Задумали почти невыполнимое, тут же с немалым трудом и усилиями выполнили, а когда выяснилось, что это ни к чему, немедленно ликвидировали всю затею. Ах, комсомол, ранний комсомол! Сколько было в тебе этой веселой жадности — все охватить, все осуществить! И всякий, кто приходил в соприкосновение с тобой, невольно тоже заражался этой счастливой верой: все, чего сильно захочешь, возможно!
И вот озорная шапка, случайно угодившая в мою физиономию, словно прилетела из тех, незабываемых лет! Это были уже другие комсомольцы — с тех пор прошло много лет, а кругом была Отечественная война — 1942 год. Большинство ребят были беженцы из мест, занятых фашистами (Поволжье и др.). Средний возраст их был 15–16 лет, но много было и четырнадцатилетних, даже порой еще юнее. Они с гордостью называли себя — «мы, молодые рабочие» — и работали часто превосходно, а иногда поражали своим неизвестно откуда берущимся новаторским духом. Вот, скажем, две девочки, самые обыкновенные девочки, делают они простейшую операцию: сбрасывают в процессе работы детали в виде маленьких колпачков. И вдруг они легко, без всякой натуги, придумывают: собирать эти детали не руками, а поддевать их небольшим крючком! Ну и что? — спросите вы. А то, что от этого происходит убыстрение производства в несколько раз! А юноша токарь придумывает к своему станку шпенек самого непритязательного вида, отчего процесс ускоряется в 17 раз! Почему на этом же деле сидели прежде взрослые и ничего такого не придумывали?
На все мои «почему» старик мастер, редкий умница, однажды с досадой ответил мне:
— «Почему»… «почему»… Мозоли — вот почему!
— Какие мозоли? — удивилась я. — Где мозоли?
— На мозгах! — отрезал старик. — Смозоленными мозгами не много придумаешь… А ребята — это ж зелень, шкеты, им все легко!
И вот в зиму 1942/43 года в Новосибирске происходил Всесибирский съезд молодых рабочих. Мне никогда — ни до, ни после этого — не доводилось присутствовать на таком съезде! Взрослыми гостями были прославленнейшие сибирские производственники, — они сидели в президиуме. А участники съезда — молодые рабочие, — как они были великолепны! Как они пели в перерывах, как плясали! А ведь время еще было грозное, черное!
Единственное, что они делали беспомощно и плохо, просто до слез, — были их выступления… Я слушала — и не узнавала тех ребят, которых слышала каждый день, когда они говорили бойко, толково, интересно!
— Слово имеет товарищ такой-то, — объявлял председатель.
«Товарищ такой-то» — парнишка с умным, живым лицом — выходил на трибуну. Все предвкушающе смотрели на него, ожидая его речи. «Этот скажет! Этот обрадует!» Но парнишка разворачивал бумажку и начинал вяло бубнить:
— Товарищи! От имени молодых рабочих Н-ского оборонного завода передаю вам пламенный комсомольский привет!..
Зал отвечал громом аплодисментов.
Дальше парнишка продолжал читать по шпаргалке:
— Мы — то… Мы — это… У нас на заводе…
Как много интересного, живого, волнующего мог бы рассказать каждый из них о своем заводе, о товарищах, о работе! Мог бы, если бы ему дали рассказывать не по бумажке, написанной кем-то другим, равнодушным и скучным!
Дальше шло заключение — у всех одинаковое:
— Да здравствует… Да здравствует… Да здравствует наша доблестная армия! Да здравствует наш великий маршал (с ударением на втором слоге) — Сталин!
Снова аплодисменты — и конец выступления. И — начало нового выступления, как две капли воды похожего на предыдущее.
Было несколько выступавших ребят, особенно ярких, живых, — они пренебрегали рыбьим клеем шпаргалок, говорили горячо, образно. Таких было не много. Но как взволнованно-радостно принимал их зал! Такая же реакция неизменно встречала всякое отступление от трафарета чтения по бумажке и проявление самостоятельной мысли. Помню, вышел на трибуну мальчик-татарин, по фамилии Губайдуллин, лет 13–14. В руках он нес громадный сверток, который с трудом запихал в трибуну. Сперва он передал съезду пламенный привет, потом довольно малокровно доложил по бумажке, что их завод работает на армию. Тут он вынул из своего свертка образцы их продукции — пару громадных солдатских сапог, — поставил их перед собой на трибуне и, улыбаясь во весь рот, заявил уже не по шпаргалке, а веселым мальчишеским голосом: «Вот — в этих сапогах пусть наши отцы бьют врагов!» Затем рядом с сапогами он поставил маленькие детские башмачки: «А это — нашим братишкам и сестренкам. Пусть топают!»
Ему аплодировали от души, с любовью и уважением. Да, вот именно — с тем уважением, в котором отказали ему организаторы этого съезда. В черный, опасный час страна доверила подросткам, почти детям, величайшую ответственность: ковать оружие. Но близорукие, равнодушные люди не доверили им самостоятельно и свободно рассказать о своей работе.
Простая операция — окончание (7)
Шахразады из меня не выйдет: на этой второй бессонной ночи — не дотянув до 1001-й — мне пришлось кончить. Кашель мой прошел, — операцию назначили на 11 ноября.
Очень правильно, здесь нет обычая провожать на операцию — вот так, как у Шиллера женщины провожают Марию Стюарт на плаху. Вовсе не нужно, чтобы человек шел на операцию в разжалобливающей обстановке «проводов».
Сборы мои на операцию начались по-смешному, почти по-водевильному: по ошибке мне принесли мужскую рубашку, коротенькую, до пупа. Смеху было!
Наконец меня обрядили в правильную «смертную одёжу». Я сделала общий поклон. Мария Семеновна пожала мне руку, и это крепкое пожатье, с ощутимым надавливанием широкого браслета от ее часов, было мне приятно.
Провожала меня в операционную одна из самых милых сестер нашего отделения, Тамара Николаевна. Она бережно вела меня под руку. Мне, как всегда в таких случаях, словно нарочно, лезли в глаза самые глупые подробности! Почему-то удивляли, словно в первый раз увиденные, мусорные урны на высоком стебле, похожем на пищевод. Никаких сколько-нибудь «значительных» мыслей у меня не было, ни о чем я не вспоминала, — вероятно, нарочно.
Шли мы долго коридорами — операционная помещается в том же этаже, но далеко. В «преамбуле» около операционной, — нечто вроде предбанника, — меня ждала Татьяна Павловна. С меня сняли халат и туфли, на ноги надели матерчатые белые мешочки, вроде тех бумажных кульков, в какие заворачивают в магазинах провизию или ягоды. Я простилась с сестрой Тамарой, Татьяна Павловна ввела меня в операционную.
Там было довольно много народу, — как потом оказалось, врачей, пришедших посмотреть, как будет оперировать Варвара Васильевна. Тогда я этого не знала и потому не взволновалась. Поднялась по ступенькам лесенки, ведущей на операционный стол, и легла. Справа от меня встала Варвара Васильевна, слева — Татьяна Павловна, ассистировавшая ей. Мне закрыли голову большим покрывалом с прорезанным в нем круглым отверстием — над оперируемым глазом. Больше я ничего не видала. Рядом со мной на операционном столе лежал мой слуховой аппарат, включенный на случай, если мне что-нибудь скажут. Но он так и не понадобился.