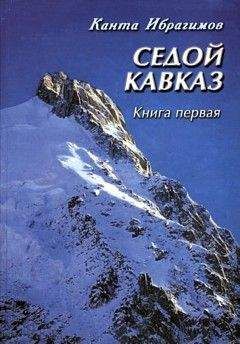Поднялся со вторыми петухами, да так, чтоб Матрена не услышала: непременно канитель затеет из-за всякой бросовой тряпки либо свару еще заведет. Почесывая поясницу под длинной холщовой рубахой и придерживая до крайности измятые шаровары, Демид, словно бы крадучись, вприсядку прошагал по земляному полу к двери. В сенцах, качнувшись неловко, сшиб с кадки большущий медный ковшик.
— Господи Исусе! — перекрестился. — Ладно, что дверь-то притворил. Проснется ведь!
По серебристо-росной мураве, делая на ней темный след, ступал босыми ногами блаженно, старался раздвинуть пальцы так, чтобы между ними травка росная прошлась. Долго стоял, покачиваясь, в углу под сараем, пока сошел весь вчерашний квас (квасом с редькой поужинали) и повернул к колодцу, присев на край водопойной колоды и опустив ноги в ямку с водой, принялся мыть их, пятки и подошвы пристрастно тер красным песком, потому как делалось это не часто. Только поздней осенью и в зимние месяцы будет он по субботам беспощадно париться в жаркой бане, стараясь возместить упущенное. А теперь пока не до того…
Мытье ног непременно предшествовало ежевесеннему обуванию Демида. Сняв с плетня просмоленные сапоги и собрав в сенцах, на печи и в других местах целый ворох самых разномастных тряпок и положив их на лавку возле себя, Демид, будто священнодействуя, не торопясь, основательно и даже с какой-то торжественностью вроде бы совершая обряд, приступал к обуванию.
Натянув и второй сапог, Демид смахнул рукавом со лба пот, облегченно вздохнул. Обувшись таким способом в неизносимые и неведомо когда купленные сапоги, он уже не разувался до покрова: а где же в летнюю пору столько времени взять, ежели по два, по три часа обуваться каждый день!
Ни усов, ни бороды сроду у Демида не бывало. Кучерявились на одной скуле несколько крупных волосин, но он либо выдергивал их, либо состригал. За безбородость эту, за бабье лицо и писклявый голос мужики промеж себя или поссорившись с ним звали Демида Тютей. Да и то сказать, какой деревенский мужик не имел прозвища! Детей им с Матреной бог не дал. Так и жили вдвоем.
— Матрена, Мотря! — легонько толкнул он жену кулаком под бок. — Вставай! Коров доить да прогонять со двора время.
Матрена, дебелая, здоровенная баба, косматая и распухшая ото сна, резво вскинулась на лежанке.
— Гляделки-то ополоскни, — напутствовал жену Демид.
— То ль без тебе не знаю! — огрызнулась Мотря и выскочила вон как ошпаренная.
Вернулась она свежая, как репа, бодрая и даже помолодевшая. Расставила на столе крынки, стала цедить в них молоко. Белая широкая струя, падая на волосяной цедок, дробилась и пенилась под ним. Демид, как холеный кот, жмурился, глядя на молоко, и, казалось, вот-вот замурлычет. Наполнив первую крынку, Матрена подвинула ему, поставила на стол хлеб, не выпуская из рук ведра, и, засуетившись, сплеснула молоко на лавку. Собралась подтереть пролитое. Хватилась — нет тряпки! Передвинула горшки на залавке, заглянула в угол возле печи — нету.
— Да куда ж вехотка счезла? — недоумевала баба. — Вот туточки ж я ее клала.
— К-хе, — подкрякнул Демид, пережевывая калач и запивая молоком из крынки. — А я ее высушил да на добрые портянки сверху навернул. Так ладно пришлась!
— Вот же какой вражина! — вспыхнула Мотря. — После его обувки хоть шаром покати — ни одной тряпки в дому не сыщешь.
— Так ведь на целое ж лето, — вяло оправдывался Демид.
— Небось и ту, что в сенцах лежала, закрутил?
— М-у-гу…
— И ту, что под порогом?
— И ту…
— А ту, что в сенцах у двери висела — тоже? Не нашла я ее как доить собиралась.
— Тоже. Добрая, чистая тряпка была!
— Да я ж ею вымя коровам вытирала, чтоб тебе с твоими сапогами лопнуть! Ну, чем теперь с лавки стереть? Чем вымя вытирать — подолом? Чем…
Демид знал, что эта свара на весь день, потому скоренько сдернул с гвоздя у двери картуз и, дожевывая на ходу последний кусок калача, не говоря ни слова, удалился.
— Глянь, глянь, Макарушка! — притопнул обутой в лапоть ногой Леонтий Шлыков. — Тютя к нам на помогу бегеть!
Мужики, собравшись кучкой, обмозговывали, как распределиться, чтоб работа спорилась. И опять всех удивил Виктор Иванович. Этот ленивый, по убеждению мужиков, «антилигент», неведомо когда успел вымахать преогромный подпол — целую избу подземную сотворил. Для чего такой подпол человеку? Доски струганые для пола, косяки, двери, рамы — все у него готово. И тут выяснилось, что не саманная будет у Даниных изба, а земляная, из пластов.
Порешили всем миром: Филиппу Мослову — пахать дерновые пласты, ребятам — возить их к стройке, глину подносить, бабам — месить глину да мазать, где надо; мужикам — стены складывать, косяки, рамы ставить, пол настилать. А Макару с Васькой да с Демидом Бондарем — печь бить.
Опечек и ровный по́д с большущей загнетой в левом ближнем углу были уже готовы. Пока Макар с Васькой пилили долевые доски для внутренней опалубки, Демид подобрал две широких плахи и, положив их рядышком, вычертил гвоздем чуть ли не целый полукруг, принялся опиливать плахи по черте.
Макар, глянув на его работу, всполошился:
— Ты чего ж эт такое творишь, Демид?
— А чего?
— Куды ж ты эдакую высотищу задрал? Париться, что ль, в ей станут? В ей ведь, как в монастыре, и тепла-то сроду не удержишь.
— К-хе, — загадочно ухмыльнулся Демид, — знать ты должон, Макар, что до тридцати лет греет жена, после тридцати — рюмка вина, а после уж никакая печь не согреет. Вон Матрена моя какая, но и она не греет.
— Балагурить-то перестань да слушай, чего тебе говорят.
— И чего ты разошелся по-пустому, — тоненько, по-бабьи возражал Демид, доставая из кармана табакерку с нюхательным табаком. — Полнолуние теперь, чуешь? А ежели печь на полном месяцу делается, завсегда теплой бывает. Слыхал такую примету?
— Пошел ты к чертям со своими приметами! — обозлился Макар и подступил к Демиду. — Полторы-две четверти делай высоту, чтоб только чугун большой уставился, слышишь? В таком балагане, как ты нарисовал, и хлебы сроду не испекутся.
Макар, оттолкнув Демида, отмерил от середины основания вверх две четверти, еще убавил чуть это расстояние — на глазок — и расковырял гвоздем большую отметину.
— Вот досель черти и опиливай!
Пока Макар с Демидом вели спор о высоте будущей печи, Васька пилил да пилил доски для опалубки. К нему прибежала Катька Прошечкина. Однако, прежде чем она успела о чем-либо заговорить, Васька по глазам увидел, догадался, зачем пришла к нему девка.
— Глину, бабы велели спросить, подавать, что ль? — пролепетала, вспыхнув до ушей, Катька, бестолково теребя толстую и длинную косу, перекинутую через плечо.
— Да ты не про глину, чего пришла, говори сразу, — зашептал Васька. По смуглым Катькиным щекам поползли бурые пятна. Потупилась, на миг прихлопнув веками зрачки и спутав нижние с верхними ресницы. И враз распахнула карие глазищи, словно из чела жаркой печи опалила. Правая бровь мучительно и жалко переломилась. Чуть шевеля красивыми полными губами, прямо спросила:
— К речке… где Сладкий лог подходит… придешь после помочи?
Хоть Васька и догадался о намерениях Катьки сразу, однако ж оторопел малость от этакой храбрости.
— Приду… — коротко и беззвучно обронил он. Словно колечко серебряное в сено упало. Сверкнуло перед горячим Катькиным взором и спряталось безнадежно. Она и не поняла толком, именно это ли он сказал, или ей почудилось, оттого что непременно хотела слышать его согласие. Пошла как-то боком, виновато сутуля плечи, в обычное время гордо развернутые.
«Что она, сдурела? — рассуждал сам с собою Васька, глядя вслед Катьке. — Ровно вдарил я ее либо словом нехорошим обидел».
С этой минуты Васька уж ни о чем другом думать не мог. С Катькой водились они еще с прошлой осени. Сошлись как-то так, что и сами на первых порах не поняли, куда повела их неведомая стежка. Знали друг друга с тех пор, как себя помнили. Раза два-три на вечерках поплясали, а потом однажды — снег еще не лег на поля — опомнились далеко за хутором, в степи. И тут в горячем, беспамятном поцелуе поняли оба: не до шуток им, накрепко связаны одной бечевкой.
Зимой Васька не раз собирался поведать деду самое сокровенное да попросить о засылке сватов. Так и не решился. А когда застучалась в избы весна, и вовсе потерял было голову парень. Однако ж после приписки, как узнал, что по осени в солдаты забреют, одумался: дело немалое, коли уж вязать этот узел, так на всю жизнь. Но ни дед, ни Прошечка на свадьбу эту не согласятся. А потому лучше не морочить себе и девке голову, не доводить дело до греха. С пожара они не встречались. Уж думаться стало, что зарастает заветная стежка, им одним знакомая, не сочится открытая ранка.
Думалось… А сейчас вот как подошла она с этакой решимостью, как сказала несколько словечек, прожгло до самых печенок. И скажи ему теперь, что у речки-то не любовь жаркая поджидает, а смерть лютая — все равно пойдет туда непременно.