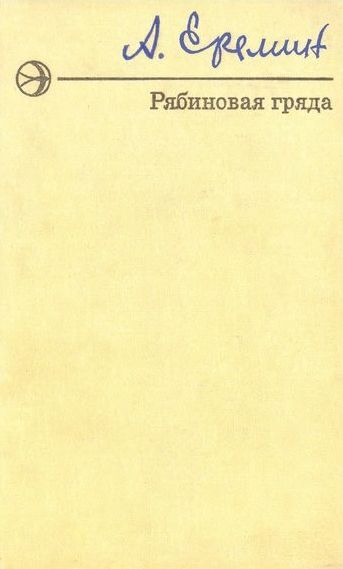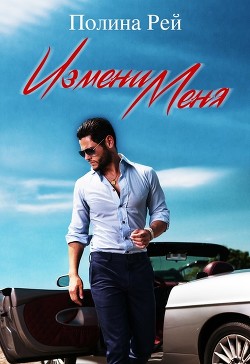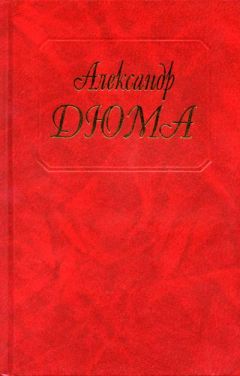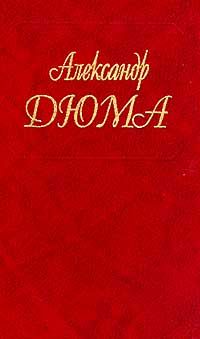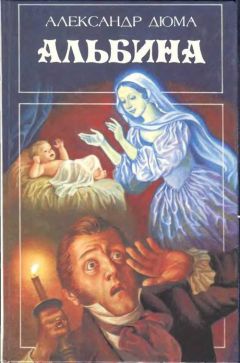мы обычно не заставали дома, со службы он возвращался поздно. Маруся встречала нас как будто радушно, пела: «Проходите, гости дорогие!» — и в то же время с неприязнью оглядывала нашу обувку, как бы мы не наследили на ее зеркально крашенном полу. Я понимала ее взгляд, разувалась в сенях и ходила только по тканьевым дорожкам, тятенька топал в сапожищах где попало. Спросить, не голодны ли мы, да посадить за стол хозяйка не спешила, разве уже тятенька сам скажет: «Чайку бы нам, Марусенька, подогрела». Тогда засуетится, захлопочет с приговорками, уж простите, мол, и невдогад мне, шишиморе. Извинений наузорит, только слушай.
За стол садилась я с неохотой, вдруг сделаешь что-нибудь не так. Захочешь налить воды в стеклянный ставчик, а может, из него не пьют. Спросить неловко. Сварит яйцо, поставит перед тобой в рюмочке, ешь, говорит, не вынимай. Начнешь ковырять его, обязательно опрокинешь. А на столе у нее все блестит. Да и все в доме будто вылизано, все аккуратно расставлено. На широкой кровати гора подушек, внизу большие, со стол, кверху все меньше, а посередине еще одна — как парус вздыбилась.
Маруся — искусная рукодельница, и везде у нее кружевные накидки, разноцветные вышивки, коврики…
Едем домой в лодке, тятенька не нахвалится Марусей: и собой-то видная, и нравом-то тихая…
— В чем ты, — говорю, — доброту ее увидел? Какими она тебя разносолами прилакомила?
Тятенька сердито хмыкает.
— Тебе еще чего? За стол — милости просим, чайку — пожалуйста. Обходительная.
Я теперь с тятенькой зуб за зуб, — если вижу, что он не прав, ни за что не уступлю.
— Очень, — говорю, — обходительная. Так тебя обошла, что ты готов ей половиком под ноги лечь. Ради нее и лесу им воровски навозил. Хорошо?
— Не твое дело.
— Мое. Деньжищ сколько ухнул.
— Опять тебя не касаемо.
— Касаемо. Мы с мамой в лопоти ходим, по новому платьишку не сгоношим, а ты — на, Марусенька! Добротой она его обольстила… Не наплакаться бы от ее доброты.
Так до самого дома и препираемся.
Подошло время учиться Володьке. Тятенька не раздумывая решил:
— У Сергея жить будешь. Чего от своих людей да угол искать. Съездим, так, мол, и так. Скажут: о чем речь! милости просим.
После тятенька сказывал, что при первых же его словах Сергей с опаской оглянулся на Марусю; та сначала поджала губы, бормотнула, что теснота у них, повернуться негде, потом нехотя смилостивилась.
— Ладно уж, потеснимся. Не чужие. Столоваться — что сами, то и ему. Накажите, чтобы не фыркал, ежели сделать что попрошу.
Тятенька заверил, что не фыркнет.
— Тише воды будет.
Нелегко было шумливому и характером супротивному Володьке стать тише воды. Ютился он у Маруси на кухне, спал на каком-то веретье. После школы не жди, что покормят тебя да за книжки сядешь — в делах покрутись, как вор на ярмарке: дров натаскай в обе печи, на кухне и в горнице, помои вынеси хряку, самовар поставь да в оба гляди, чтобы не убежал.
Обедать Володька садился вместе с Марусей и Сергеем, и каждый раз вылезал из-за стола голодный. Терпел, молчал. Думал, увидит Сергей, что его братец сидит у них за столом как нищий, на самом дальнем углу, ест без хлеба, цыкнет на подлую Маруську и скажет: «Не стесняйся, ешь, сколько утрамбуется, у Советской власти дела в гору идут, хлеба на всех хватит». А тот подвинет к себе тарелку, важно уткнется в газету и не взглянет. Ваше благородие.
Месяца через три Володька прибежал домой в середине недели. Выпытываем, что, мол, не вовремя. Глаза отводит в сторону, мямлит: «Так… Отпустили…» Дождался, когда мы отвязались, шмыгнул за переборку к печи и там втихомолку ставец картошки умял, полгоршка гречневой каши и еще что-то, весь наш ужин. Вышел, прищипился у окошка с «Таинственным островом».
Перед ужином мама поохала над пустой посудой, обняла Володьку:
— Болезный ты мой, наголодался как. Или пошел, Маруся тебя не покормила?
Володька поугрюмел, исподлобья кольнул глазами тятеньку, — тот за столом подбивал на счетах квитки, звучно брякал желтыми и черными пронизями. Кажется, он не слышал их разговора. Безразлично спросил, чтобы и его отцовское слово было:
— Слушаешься ее?
— Слушаюсь, — ответил Володька и отвернулся. — Не послушайся, изведет. Сука она, эта ваша Маруся.
У тятеньки глаза из-под белых бровей так и сверкнули. Выпрямился, грохнул счетами по столу.
— Пащенок! Мизинца ее не стоишь. Приветила его, а он…
Занесся и Володька, но на всякий случай попятился к двери.
— Тебя бы так-то приветить. Кощей она сухожилый, удав, за копейку удавится. Сядем за стол, себе щи с убоиной, а мне пустая похлебка, не хватило, говорит. Хлеб к себе придвинет, тянись за ним с угла на угол. А я стесняюсь и уркаю без хлеба. — Набычился и отрезал: — Не пойду к ним больше.
— Пойдешь! — Тятенька погремел счетами в воздухе. — И Марусе в ножки поклонишься. Ехидина. Хорошего человека обклеветал.
— Может, не обклеветал, — вступилась за Володьку мама. — Съезжу сама и увижу.
Съездила. Со снохой о Володьке и речи заводить не стала, что гадюку дразнить. Улучила минутку, с Сергеем один на один перемолвила. Попрекнула, что сердце у него даже к родному брату закоростело.
Вряд ли Сергей какие внушения делал Маруське, только с тех пор он будто невзначай переставит хлеб на середину стола. Маруська его, тоже вроде нечаянно, к себе везет, Сергей опять на середину осадит. Заметит, что у них щи жирные, не продуешь, а у Володьки — мутная вода с луковицей, с усмешкой крякнет:
— Давно не едал похлебки. Ну-ка, Володька, поменяемся.
9
Вслед за Сергеем откололся Миша от нашей семьи. Кончил школу и уехал куда-то в Заволжье. Месяца через два написал нам, что служит в Лебедянском леспромхозе и живет не один. В письме сказано было как-то возвышенно и смутно: «Фортуне угодно было, чтобы моя встреча с Зойкой во глубине ветлужских лесов стала Рубиконом моей одинокой жизни».
— Съезди, отец, — взмолилась мама, — погляди, ладно ли у него вышло. Какая это фортуна сосводничала? Нет бы турнуть ее да нашего совета спросить. Насчет Рубикона… Про что он это?
— Кто е знает. Ученые. Кон вышел, удача, руби. И составился рубикон. Так думаю. Съездить надо. Там у меня не то что люди, и волки знакомые.
Воротился тятенька не в духе, на расспросы мамы огрызался: «Мне-то что? Пусть хоть на росомахах женятся, их воля». Когда отошел немного, пустился в жалобы на своеволие и непокорство сынов.
— Коя подвалится им, та и жена. Сергей — ладно, хоть домовитая попалась, а уж Михайло… И молвить — стыд.