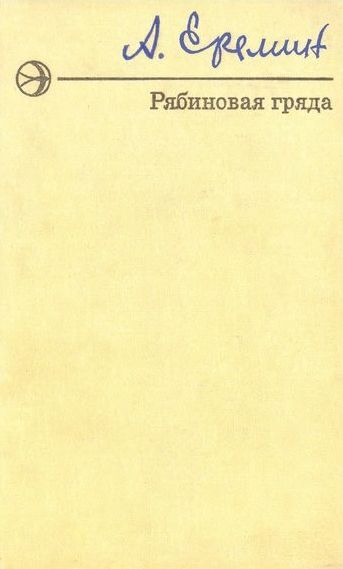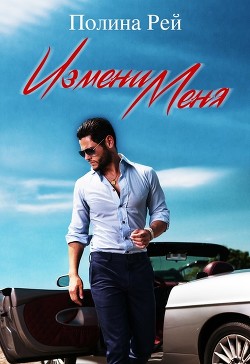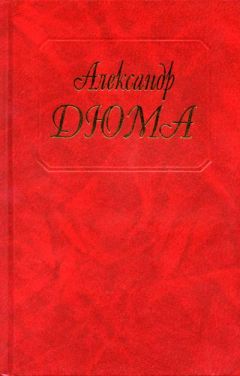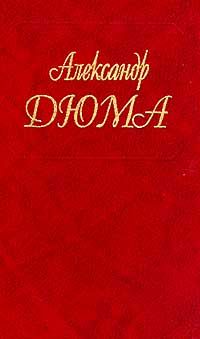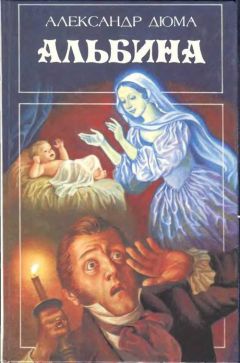чему он нашего тятеньку приплетал, вовсе было не понятно. Спросить стеснялись. Думали: завидует. Тятенька наш — какой-никакой, а начальник.
Одно время склады на Рябиновой Гряде тянулись по берегу мало не на полверсты. Осенью с низов привозили на баржах разную плотогонпую снасть — якоря, шеймы, лоты, цепи, канаты… Приезжал и тятенька. Забежит ненадолго домой, перекусит, гостинцы нам рассует, скороговоркой скажет, что в каком городе купил, и скорее в Нерядово, нанимать людей на разгрузку.
Гомон поднимается на Гряде, как на кряжовском базаре. Мужики с уханьем и непристойными припевками волокут стопудовые лоты, стальные тросы, пеньковые канаты, бабы перетаскивают что полегче. Тятенька распоряжается, куда какой груз складывать, тонкий веселый голос его слышится то с баржи, то из темной пасти склада. Конторские пишут, за порядком следят.
В такие дни мы с утра до вечера на берегу. Нам все интересно: и как подымается пустеющая баржа, и как тятенька шутливыми окриками подгоняет работающих:
— Тащи, народ, до самых ворот. Бабы-шельмы, несите шеймы…
— Все уж перенесли, — бойко откликается которая-нибудь из баб, — Расплатой не поскупись,
— С такими красавицами да скупиться, — подмигивает им тятенька. — Чем желаете, червонцами или шпиртом?
— Шпп-и-ртом! — задорно голосят бабы.
Слышатся недобрые и словно угрожающие мужичьи голоса:
— Бабий клещ! Так и ластится.
— Со шпиртом решил подъехать.
— Чтобы легче валились.
Разгрузка подходила к концу, людей на берегу оставалось немного. Похолодало, и мы отсиживались дома. Кто-то загрохал в боковое окошко, испуганно выкрикнул:
— Марь Ондревна, мужики Астафыча бьют.
Голос дяди Стигнея.
Мама с тяпкой в руке, простоволосая, кинулась в дверь. Я строго наказала Володьке, Проне и Вите носа не высовывать на улицу и — ветром за порог. Вижу, мама вскинула тяпку над головой и с криком наступает на мужиков:
— Пустите Астафья! Разражу!
Толпа раздалась. Мама помогла тятеньке встать с земли. Пиджак у него на груди разорван, рубаха распахнута от ворота до подола, лицо и борода в крови.
— Держись за мной, — командует мама и гневно оглядывает мужиков. — Налили буркалы-то. Десятеро на одного. Что он вам? Обсчитал, что ли? Так врете, копейкой вашей не корыстуется.
— Не за копейки его, — огрызнулся один из мужиков. — За похабство.
— К нашим бабам липнет, — выкрикнул другой. — Проходу не дает.
— Портки у него плохо держатся, — съязвил третий. — Увидит бабу, сами сползают. Вот и хотели приколотить.
Я стою у крылечка избы дяди Стигнея, сам он сидит тут же, на нижней ступеньке, босый, и вьет веревку, конец ее, с узлом, держит между пальцами ноги.
— Спьяну это они тятеньку, спьяну, — возбужденно и торопливо твержу я. — И завидуют, что он начальник.
— Все может быть, — нехотя тянет дядя Стигней, не глядя на меня. — Мне что. Узрел беспорядок, знак подал, а разбор — ваше дело. Главное, Татьянка, никогда от правды не отворачивайся. Горькая, а ты пей. Вот и сейчас. Мало приятности, что мужики гавкают, а ты слушай.
Я слушаю и киплю от обиды за тятеньку. Мужики из Нерядова, — некоторых я хорошо знаю, за молоком бегаю к ним, — степенные, добродушные, а тут кулаками сучат, зубы щерят. Каменьями летят в тятеньку злые мстительные слова:
— Потаскун!
— Сучий угодник!
— Вырезать у него жеребячью лихость, пущай к Марь Ондревне мерином придет.
Мама отшугивает мужиков тяпкой:
— Баб своих уймите. Всякий стыд потеряли.
Смелеет и тятенька.
— Чего пристали! — хорохорится он и выступает из-за маминой спины. — Нужны мне ваши чумички. А что с одной на складе пошутил…
— Молчи уж, — обрывает его мама. — Домой ступай. — Она идет сзади и негромко, плачущим голосом зудит его.
— Вот за то самое его и лущили, — заключает дядя Стигней, когда они прошли и за ними брякнула щеколда двери. — Всем бы Астафыч мужик ладный, башковитый, а за это — не хвалю. Тебе, Татьянка, кой годик-то?
— Семнадцатый.
— Ишь!.. Тоненькая, хоть в узел вяжи. Думал — дите, а ты — невеста. Разуметь должна эти дела.
— По книжкам только, — признаюсь я. И правда, об изменах жен и мужей, о совращенных бедных Лизах, искусительных Нана и Манон успела я начитаться вволю. Но ни разу не слыхивала, чтобы мама при нас хоть словом повинила тятеньку в таких похождениях. Разве наедине.
— Чай, думаешь, что раньше не знала? — Дядя Стигней отделяет от связки мочал светлую шелковистую прядь и понимающе взглядывает на меня. — Потому и не знала, что мать у вас молодец. Золотой человек и великой силы душевной. Вот так-то. Все ведала и — как под замком.
— Что ведала?
— А вот это. Прямо сказать, саврас без узды ваш тятенька. За каждый бабий подол как репей цепится. Не дивно бы молодой, а то под шестьдесят, голова как в снегу вываляна. Шатило ты непутевый. — Он корит тятеньку, словно тот стоит перед ним с повинной головой. — Ондревну теперь возьмем. Выручила она его, привела. Думаешь, в волосы ему вцепится? Скалкой пойдет щепать? Не-е… Вас от беспокойства побережет. Ей первое дело — семья. Пусть, мол, он шалопутный и раз-беспутный, а семья в мире нерушимом жить должна. Вот как Ондревна судит. Настоящая мать. Поплачет, как без этого. Астафыч покается, она, по чистоте душевной, поверит. А там опять. Великомученица детей своих ради. Будь моя воля, богомазам велел бы с нее богородицу писать.
— Любит ее тятенька, — говорю я, и это кажется мне самым убедительным доказательством, что небылицы о нем плетут. — И женился он по любви.
— Не силком, это верно, — соглашается дядя Стигней. — Только ежели… — Он мнется, хочет сказать что-то и сомневается, надо ли. — Я ведь сам ветлугай, из ваших краев. Под началом Астафыча плоты вязал, так что мало-мало знаю его. Говоришь, по любови… А как это в мыслях сообразить: отпировали на свадьбе, проводили молодых на покой, а он от молодой жены да к прежней своей магдалинке. У нее и ночевал. Так и пошло. Куда ни едет Астафыч, везде у него краля заводится. Знала ли Ондревна? Как не знать. В Кузьме одинова… Сидит в чайной, зубы с развеселой бабенкой скалит. Одаль я — щец заказал. И входит, скажи на милость, Ондревна. Поклон честь честью и тоже к супругу подсаживается. Мне весь их разглагол слышно. Астафыч про бабенку крутит, мол, вот из нашего села встретил, санчурскую. Фициант подлетает, что-де подать прикажете. «Подай моей жене, — Астафыч приказывает, — обед самолучший». Тот глядит на обеих, плечами дергает. «Разъясни, Астафыч, которой, ведь ты две недели вон ту женой называл». И на развеселую бабенку указует. Та — спаспбочки за угощение и вихорем вон. Ей, валявке, дело привычное, матери-то было каково? Недавно гляжу, нерядовскую весельщицу…
Я взмолилась, хватит, мол, дядя Стигней, слушать тошно.
С тех