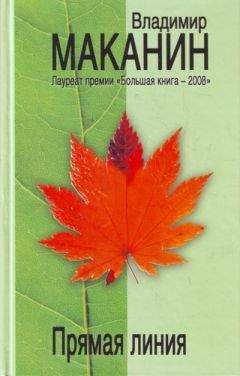— Я… думаю, — выговорил Неслезкин.
И опять та же тишина и шаги Зорич.
Петр Якклич сказал негромко:
— Д-да. Свалилась на нас беда-бедуха. Каждый мог попасть под такое.
— Мы предупреждали. Иван Силыч как их предупреждал. Просил!.. Уверен, мы бы легко справились на следующий день, уверен, — заговорил лысый майор.
— Переста-ань, — мрачно процедил Петр. — Перестань. Никто не застрахован от такого. Случись это с тобой или со мной, я бы бровью не дрогнул. Но они же пацаны!
Худякова встрепенулась:
— Я бы умерла, если бы я… Умерла бы!
— Товарищи! Нужно решать! — громко отчеканила Зорич.
И мне стало вдруг приятно, что я — а не они и не Костя, — я виноват. Я уйду, а они останутся. Уйду как последыш войны, ненужный, мешающий людям. Это не мистика. Я давно знал это… И чтобы не выслушивать Зорич, которая сейчас будет говорить правду о том, что Белов всегда был таким, — она, единственная из всех, учуявшая и угадавшая эту правду с первого дня, ведомая матерой своей интуицией… и чтобы прервать ее логику, логику и страсть охотника, загнавшего наконец-то зверя в угол, я встал.
— Что же тут решать, Валентина Антоновна. Все знают, что виноват я.
Я сказал это просто. Я сказал это с ясным сознанием их правоты и, чтобы не красоваться в позе жертвы, чтобы дать им сказать все, не стесняясь, без меня, вышел.
4
Прошло больше часа.
Я увидел, как из лаборатории вышли Зорич и Неслезкин. За ними шагах в двух шел Костя. Он шел медленно. Головы всех троих — две седые и светловолосая — чуть белели в полутьме коридора.
Свернули, вошли в кабинет Г. Б. Оформлять, понял я, и неторопливо зашагал туда же. Дверь была открыта. Я стоял в дверях и видел их хорошо: они стояли у стола — у большого стола Г. Б. Я слышал, как пророкотала Зорич:
— Вся лаборатория считает так. Костя не мог ошибиться. Почему же не записать это? Удивляюсь вам, Михал Михалыч.
Неслезкин молчал.
— Это решение лаборатории, а не пустяк!..
Неслезкин молчал. Костя тоже молчал. Они стояли ко мне спиной.
— Может быть, вы хотите, чтобы мы прямо написали, что виноват Белов?! Может быть, я не так вас понимаю?
Опять молчание. И наконец холодный голос старика:
— Нет… нехорошо… Пусть привезут расчет.
— Ладно, пусть привезут, пусть! Но то, что Костя не виноват, мы просто обязаны отметить. Это общее решение. Итак, мы официально заявим, что виновного можно найти только после командировки туда и проверки… и недвусмысленно отдельно напишем мнение лаборатории о Косте, о том, что он не ошибался, был безупречен и все остальное. Это будет справедливо!
На чистом листе зеленоватой официальной бумаги уже лежала голубая авторучка, похожая на плывущую акулу. Зорич начала писать: «…приняла решение, что младший научный сотрудник Князеградский…»
— Тут, Костя, вставишь год рождения и прочее… Тут указано.
Костя стоял молча. Он не глядел, что она там пишет, он как бы отвернулся от этой кухни. Он как бы договорился сам с собой, что не скажет ни слова.
Не отрываясь от письма, Зорич говорила:
— Мы сделали совершенно необходимое: вдруг с Беловым случится что-то? Вдруг он выкинет выданные ему там бумаги и скажет, что потерял? Вы его плохо знаете, Михал Михалыч. Это страшный тип, издерганный, нервный, он в первой уборной выкинет бумаги! И доказать его виновность будет невозможно. А потеря бумаг ему сойдет: молодой, первый год на работе и тому подобное… А он должен ответить за все! — Голос Зорич дрожал, и руки ее тряслись.
Она спешила, гнала строку за строкой, и носилось над бумагой срезанное акулье рыло голубой авторучки. Потом поставила точку. И еще раз предложила пойти с этой бумажкой «прямо к генералу», и Неслезкин сказал: «Нет, нет». Он повторял «нет, нет» и опять мял галстук, опять словно нащупывал что-то в этом темно-ржавом лоскутке у своего темно-ржавого лица. Он повторил это раз шесть или семь, пока Зорич не надавила как следует, сломив наконец мягкую нотку его власти.
— Ну что ж… — вздохнул Неслезкин.
И подписал.
Я отошел от двери: им было бы неловко видеть меня. Я зашагал по коридору. «Что ж ты и слова за меня не сказал, Костя? Ни слова… Ты, конечно, прав: хоть один из нас, да уцелеет, тем более что мне все равно не дали бы такой вот реабилитирующей бумаги. Да мне и не нужно ее. Я, конечно, напутал в расчете, но чего не бывает в жизни, Костя? Вдруг не я?»
Я видел, как он вышел из кабинета. Это была твердая походка. Он не опустил глаз, не оглянулся: видел ли я? знаю ли я? Он был прав. Он не стыдился. Как можно, чтобы в его блестящей, предназначенной для великого жизни стряслось, случилось что-то опрокидывающее, несправедливое?
Я ушел на этаж выше, чтобы никого не встретить, но, когда остановился у пролета и закурил, увидел внизу другую группу.
Если предыдущая троица воплощала логику и разум, то внизу, этажом ниже, у пролета бушевали страсти.
— Я готов за них растолкать всех, кто будет у его дверей! Это же дети, дети! — кричал Петр Якклич. Он кричал, рвался, а лысый майор цепко держал его за руки.
— Поэтому вам и не стоит идти, Петр Якклич. Иван Силыч прав: нужно идти одному. Генерал не любит групповых приходов, да и кто их любит?
Петр вырвался и взмахнул рукой:
— Вы будете целый час решать! Иван Силыч обожает Стренина, а я готов на все, если будет надо!..
— Я пойду. Парни честно работали, — прозвучал тихий голос — Я пойду, — повторил угрюмый майор.
Он стоял как раз подо мной у перил, в двух шагах от взрывающейся шевелюры Петра и блестящей головы лысого майора. Он сказал это тихо, но твердо, и стоящие рядом подчинились. Подчинились его признанной репутации безукоризненного работника: лучшую кандидатуру трудно было найти.
— Я пойду, — повторил угрюмый майор. — Генерал иногда заговаривал со мной, болтал по-приятельски…
Он зашагал вниз по винтовой нашей лестнице. Затянутый в мундир, гордо подняв голову, он четко шагал, спускаясь и кружа вокруг пролета, и сверху казалось, что он несет генералу Стренину свои нелегкие годы и нелегкие свои погоны.
Петр и лысый майор, все еще споря, ушли. Я стоял и глядел в пролет. Примерно через полчаса угрюмый майор поднялся вверх по той же самой лестнице.
5
Когда я вернулся в лабораторию, начались какие-то неловкие разговоры. Сначала просто говорили о дороге, о поездках. О погоде, какая стоит сейчас в районе испытаний.
Около Кости остановился лысый майор и долго смотрел, как Костя пишет.
— Работаешь? — спросил он. — Ну ничего, работай. Работай.
Худякова тихо заговорила:
— Не очень-то волнуйся, Костенька. Уж мы постоим. За вас обоих… Мы-то знаем.
— Ты свою задачу готовишь? Оформляешь? — все суетился лысый майор. — Для НИЛ-великолепной? Они ведь собирались публиковать, да? Это большое дело. Задачу свою готовишь, да, Костя?
— Да, — резко сказал Костя и поморщился.
Лысый майор перешел ко мне:
— Ты тоже, Володя, не волнуйся. У тебя же есть задачи. Как свободное время, так и порешай немного. И в дороге можно решать…
Мне стало тоскливо от этой деликатности.
— Д-да. Дорога не шутка, — говорил кто-то.
Лысый майор смущенно улыбался:
— Ерунда. Нужно только чувствовать себя хозяином в поезде… Даже весело бывает.
И Петр, глотая комок в горле, заторопился:
— Еще как весело! С одной женщиной я как познакомился? Упал на нее с вагонной полки… Шел, слышишь, Володя, встречный и дал гудок во всю мощь. Я, сонный, так и грохнулся вниз. Там не то в карты жульничали, не то курицу ели. А какая женщина оказалась! Ты, Володя, конечно, любишь рыжих женщин?..
— Еще бы, — стараясь улыбаться, отвечал я. Я смотрел на угрюмого майора. Иван Силыч молчал. Ему сейчас было нелегко: его даже не пустили в приемную генерала. Сказали, что некогда.
— Да… Дорога — дело долгое, — сказал лысый майор и потрепал вдруг меня по плечу.
Я понял. Ехать туда, где еще не похоронили… Где их семьи, их дети.
Я сказал негромко:
— Значит, я должен ехать? Суток трое туда? Так, кажется?
И опять все заговорили про поезда. Только про поезда.
Я повторил:
— Значит, я?
— Да, Володя… — сказал Неслезкин. Он подошел ко мне: — Привезешь расчеты. Мы… посмотрим.
Ему трудно было говорить. Как всегда.
— Да, да, — заговорили все. — Съездишь и привезешь расчеты. Через неделю будешь здесь. Что же делать, если Стренин уперся? А через неделю будешь здесь…
— И не унывай, Володя. Может быть, все обойдется.
— Мы здесь будем начеку. В обиду не дадим.
— Михал Михалыч в обиду не даст.
Что-то такое спешил сказать каждый, будто они боялись, что я упаду в обморок. Они говорили, улыбались и было ясно: если ты и окажешься виноватым и если все это будет доказано, все равно, Володя… уж мы постараемся. Но ехать надо, сам понимаешь: уж так получилось, Володя. Не вини, брат, нас очень…