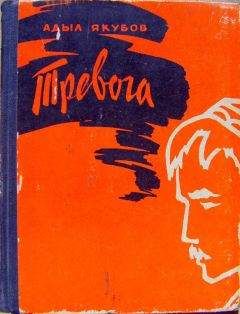И Апа вдруг засмеялась, поблескивая замаслившимися глазами.
— Ладно. Идем вместе, входим. Кабинет, поверите, с половину этого двора. Кругом сукно зеленое. А у стола телефонов черных — будто ягнята, целое стадо! И навстречу нам выходит первый секретарь… Ну, глядите, чтоб только между нами: секретарь и на секретаря-то не похож! Несолидный такой, хоть и голова седая. И вежливый — прямо как женщина. Сам, значит, вышел нам навстречу. Я, конечно, растерялась и первым делом попросила стакан воды. Он налил. «Пожалуйста! — говорит. — Что, разве жарко?» — «Нет, — говорю. — Просто во рту пересохло. С таким солидным человеком встречаюсь…» Он рассмеялся: «Неужели у меня такой вид, что у человека во рту пересыхает?» А я прикинулась простоватой: «Это мне так про вас рассказывали. Но теперь вижу, вы очень мягкий, обходительный человек». Он еще пуще в хохот!..
— Ну — ка, налей! — Равшан крякнул, пододвинул стопку Латифу.
Тот хлопнул в ладоши, потянулся за бутылкой. Потом глянул на Султана, подмигнул:
— Тебе, пожалуй, хватит.
Апа между тем, ни на кого не глядя, продолжала:
— Посмеялся он — и как-то легче стало у меня на душе. Выпила я воду, начала рассказывать. Вижу — слушает внимательно. «Погоди же, — думаю, — я тебе выложу!» Да и залилась слезами. Он растерялся, бедный, опять мне воды наливает, газированной. «Успокойтесь, — говорит. — Не плачьте. Мы вам поможем». — «Спасибо, — я ему говорю, — за ваше доброе отношение. Но если вы колхозникам хотите помочь, то сами поезжайте к нам в кишлак. Что же это такое? — говорю. — При советской власти насилие творят над трудящимися! Совершили преступление и хотят свалить на невиновных…»
Тут Равшан шевельнулся, спросил, не поднимая головы:
— И что же он?
Апа, сдернув с головы шелковый платок, откинула его на плечи, пригладила волосы.
— А что ему сказать? Говорит: «Проверим, установим истину».
— И только?
— Нет.
— Ну?
— Ох вы, нетерпеливый! Я ему еще раньше сказала: «Если расследовать, то пошлите людей надёжных — таких, как товарищ Рахимджанов. А то весь кишлак стонет от беззакония, а пожаловаться некому. Они, — говорю, — и свидетелей-то сбивают, нестойких людей». Ну, ом мне: «Поезжайте спокойно. Мы беззакония не допустим».
— Так. Дальше!
— А дальше он стал меня расспрашивать, как да что, где я прежде работала. Я и рассказала. Как издевались надо мной, как понижали… «Вообще, — говорю, — к женщинам в колхозе никакого внимания. То же самое к старым кадрам. И все должности раздаются по родству».
— Вот здорово! — Латиф хлопнул себя по лбу. — Молодчина у нас мать! Главное сделано! Как с Муминовым, не знаю, а наш Мутал-ака поедет теперь прямехонько к Ледовитому океану! — И он ударил себя кулаком в грудь. — Ну что, дядя, наш теперь колхоз?
Равшан в задумчивости положил свою тяжелую руку ему на плечо. Потом сказал Апе:
— Посмотри, как там плов.
— Сидите, мамаша! — Латиф вскочил на ноги. — Я не допущу, чтобы вы хоть соринку с дороги убрали, когда ваша невестка в доме!
И, качаясь, пошел к дому.
— Джигит мой взрослый! — умилилась Апа и двинулась вслед за сыном.
Султан тоже поднялся, но покачнулся и снова присел.
— Пить надо с умом! — строго поглядев на него снизу, проговорил Равшан.
— Э-э, чего там!.. — Султан небрежно махнул рукой. — Сами-то вы, помните, каким были?
Равшан надел на голову тюбетейку, задумался.
Апа, конечно, прихвастнула, но ее жалоба, видимо, произвела впечатление на секретаря обкома. Некстати только он заинтересовался личностью самой жалобщицы…
— Бросьте вы раздумывать, дядя! — крикнул Лaтиф, появляясь с пловом на глиняном блюде. От коньяка горло его словно прочистилось, голос звучал, точно бубен, прокаленный у костра. — Пока мы живы, не тушуйтесь!
Снова Равшан залюбовался племянником: молодец! Грудь мускулистая, раскраснелась, несмотря на загар, от ударов кулаком. Кепка едва держится на затылке. Настоящий чапани-ухарь, игрок, сорвиголова доброго старого времени! Лет тридцать пять назад, бывало, такой игрок ухнет себя кулаком в грудь, гаркнет: «Гардкам!» — «Была не была!» — собственную жену поставит на кон…
В молодые годы таким был и сам Палван. Любил пофорсить, покрасоваться на людях, драку затеять. Никому ни в чем не уступал, точно беркут — степной бесстрашный хищник. Тому же учил с детства и племянника: «Кто тебе перечит, бей между глаз!» Не раз говорил: «Беркутом растет племянничек! Нацелился, схватит — не упустит…» Так и вышло. Только вот сам Равшан уже не прежний: состарился, ослаб, расстраивается из-за пустяков. И это он, знаменитый Палван, перед которым не один год дрожали недруги! Неужто не вернется былое? Ведь случалось куда тяжелее — все равно выходил один на один, крикнув, только: «Гардкам!»
— Налей-ка! — Равшан протянул рюмку Лати-фу. — Опрокинем перед пловом — и крышка!
— Дядя! Вы ли это? — с искренним восхищением воскликнул Латиф. Он сдернул кепку с затылка, подбросил ее высоко вверх. Кепка повисла на сучке дерева. — Э-эх, живы будем, все будет наше! И председательское кресло тоже.
Все во дворе захохотали. А Равшан подумал: «Тебе бы только этого! У дяди под боком, умной головы не надо. Живи, наслаждайся! Да только не забывай, кому обязан».
— Раз обком за дело взялся, — рассуждал вслух Султан, достав из чехольчика нож для мяса и затачивая его о край пиалы, — пустяком не отделается наш раис.
— Да уж вернется без партбилета, будь уверен! — подтвердил Латиф.
И тут Палвана вдруг осенило: а что, если распустить слух, будто Мутала уже выгнали из партии? Одних ошарашит, другие призадумаются, третьи, может, и отступятся. «Только — осторожность! — одернул он себя. — Не зря предупредил сам Джамалов».
— Ну, взяли! — Равшан погладил лоб, с посветлевшим лицом протянул свою рюмку к Латифу — чокаться.
Когда Мутал с-тремительно вошел во двор, Гульчехра на айване, перед прибитым к стене зеркалом, поправляла прическу.
— Ты куда это принарядилась? — еще издали крикнул он.
Гульчехра обернулась на его голос и удивленно вскинула брови: мужа точно подменили. Выражение грусти и тревоги исчезло из карих запавших глаз, и они светились, излучали тепло. Тонкое, с выступающими скулами лицо, в последние дни всегда замкнутое, подобрело, опять сделалось открытым, приветливым.
— В садик, за детьми, куда же еще?
— Попроси кого-нибудь за ними сходить. Сейчас поедем!
— Куда?
— В Чукур-Сай!
Гульчехра перестала улыбаться.
— Зачем? Что с тобой?
— Со мной? — переспросил Мутал и, легко взбежав ка айван, обнял жену. — Смерть миновала Шарофат — вот что со мной! И не только смерть. Операция прошла так успешно, что врачи сказали: она, если захочет, может быть хоть балериной, хоть спортсменкой, чемпионом по бегу. Вот что со мной!
Выражение вопроса и недоумения в глазах Гульчехры, наконец, сменилось улыбкой:
— Ну, я рада за тебя. Только при чем здесь Чукур-Сай?
В другое время такой вопрос непременно вызвал бы досаду, но сейчас Мутала охватило то радостное возбуждение, когда ничего не замечаешь вокруг.
— А при том, — сказал он и с шутливым почтением поцеловал жену, — что мне теперь все равно. Шарофат поправляется, в Чукур-Сае — победа. Теперь пусть что хотят, то и делают со мной. Пусть судят, сажают хоть сегодня!
— Ну что ты говоришь! — воскликнула Гульчехра. Она вспомнила о повестке и заволновалась: — Ты был у Джамалова?
— Нет.
— Почему? Ведь он… — начала Гульчехра, по тут уж Мутал взмолился:
— Не напоминай мне сейчас о нем! Успеет еще заарканить.
Гульчехра чутьем угадала, что сейчас не стоит ни возражать, ни упрекать мужа. Она торопливо закончила прическу и побежала все-таки за детьми.
Всю дорогу — в садик и обратно — Гульчехра думала о Мутале. Мысли были невеселые.
Давно уже она не видела мужа таким, как сегодня. А ведь Мутал умел смеяться, радоваться неудержимо и заразительно.
Она вспомнила студенческие годы. Каким оживленным, трогательно-смешным бывал Мутал, когда Гульчехра приходила на свидание с ним!
А как он веселился и смешил других на студенческих вечеринках, в компании друзей! Он так умел имитировать самоуверенных молодых доцентов и почтенных профессоров, что ребята прямо падали от хохота. А девушки смотрели на Гульчехру с завистью: вот какой у нее Мутал!
И обо всем этом даже воспоминания не осталось за последние год-полтора, не говоря уже о страшных десяти днях после несчастья…
Правда, дня четыре тому назад, в тот вечер, когда завершили работы в Чукур-Сае и воду, наконец, пустили на поля, Мутал так же, как и сегодня, приехал радостно возбужденный, повеселевший. Он играл с детьми, шутил с ней, что-то рассказывал, смеялся.
Сама Гульчехра не смогла в тот вечер поехать в Чукур-Сай — не с кем было оставить детей. Но учителя, побывавшие там, рассказывали на следующее утро, какое это было радостное событие для всего кишлака, как ликовали люди. Гульчехра и без этого рассказа поняла бы радость Мутала. Она, как никто другой, знала, сколько труда и энергии потребовал Чукур-Сай от ее мужа, какого напряжения нервов стоил он Муталу.