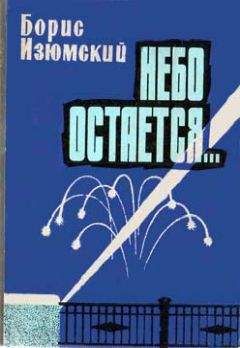— Черная магия! — безаппеляционно отрезал Борщев. — В нашей науке не может быть места для подобного идеализма.
— Думаю, вы слишком скоропалительно судите, — не согласился Константин Прокопьевич. — В «Философских тетрадях» Ленина я недавно прочел, что творческое продолжение Маркса должно состоять в диалектической обработке всей истории человеческой мысли, науки и техники.
— Читать — еще не значит правильно понимать, — нахмурясь, бросил Борщев, — плохо вы Ленина читаете, если сейчас распространяете взгляды буржуазных «светил»!
— Почему именно буржуазных? — Костромин невольно начинал горячиться. — Такие взгляды высказывал еще перед войной академик Колмогоров. Что же касается контактов с прогрессивными представителями зарубежной науки, то они нам необходимы. Есть области, где мы пока очень отстаем…
— Гнусный вымысел! — резко оборвал его завкафедрой. — И я не могу позволить сбивать нашу науку с завоеванных позиций. Надеюсь, вы не откажетесь подтвердить на ближайшем ученом совете высказанные здесь оценки?
— Несомненно. И даже мотивирую…
— Прекрасно, прекрасно, — словно бы даже радуясь, потер руки Борщев и сделал многозначительную паузу. — А ведь если я вынесу вопрос на ученый совет, там наверняка возбудят ходатайство перед ВАКом о лишении вас звания доктора. Вы отдаете себе в этом отчет?
«Ах, так вот оно что! Вот к чему ты все это клонил!» — с острой неприязнью посмотрел на него Костромин. Обычно Константин Прокопьевич уходил от столкновений с Борщевым. Даже во время боя итальянских петухов их выбирают по весу, а Борщев легковесен. Но смиренно сносить подобные угрозы Константин Прокопьевич не мог.
— А вы отдаете себе отчет, — гневно сказал он, и скулы у него отвердели, — как на этом же ученом совете будете выглядеть вы, объясняя, почему только что подписали мне совсем иную характеристику для поездки во Францию?
Борщев перестал улыбаться. Да, этого он не учел. И подобный поворот разговора на совете допустить нельзя.
— Ну, хорошо, — уже примирительно произнес Борщев, — не будем доводить дело до крайности. Но, согласитесь, при такой разности взглядов нам трудно и даже невозможно вместе работать на одной кафедре. Вам лучше подать заявление и по-хорошему уйти.
— Считайте, что такое заявление я уже подал, — поднялся Костромин.
Еще в конце войны его приглашали на работу в ленинградский институт имени Герцена, да, кроме того, в Ленинграде жил и его родной брат, архитектор.
— Хорошо, что хоть в этом мы пришли к единому мнению, — удовлетворенно сказал Борщев.
Уже дома Константин Прокопьевич спохватился: «А Максим Иванович?» Но здесь же сказал себе: «Он достаточно самостоятелен… Я буду продолжать ему помогать».
Костромин вспомнил, как недавно во время прогулки Максим Иванович сказал, видно, чувствуя неловкость за это откровение:
— Константин Прокопьевич, единственное, что мне не нравится в вашем характере, так это смиренное толстовство. Надо уметь давать сдачу, иначе вашу интеллигентность беспардонные люди примут за слабость.
«Вот и дал сдачу», — горько усмехнулся Костромин, но все же решил, что правильно поступил. В конце концов, сколько можно терпеть, когда испытывают твою сдержанность.
Рассказав Васильцову о последнем разговоре с Борщевым, Костромин шутливо закончил:
— Последовал вашему совету — отказался от смирения.
…Перед отъездом Костромин попрощался в институте с коллегами, с маленькой приветливой вахтершей Дарьей Ивановной, поцеловал руку обаятельной заведующей библиотекой Ие Савельевне, в келье под лестницей вестибюля отдал случайный долг за стрижку разговорчивому парикмахеру — своему тезке.
Потом, прямой, юношески стройный, медленно, словно все запоминая и унося с собой, прошел слабо освещенным коридором. На секунду замедлил шаг у поглядевшего на него с недоумением пышноволосого, с раздвоенным подбородком, Ньютона. Мысленно сказал ему иронично: «Увы, сэр, бывают и такие „Начала“. Не судите меня строго. Хотя вам это не нравится, гипотезы я все же измышляю».
И вышел из института.
…С годами обидчивость в человеке, как правило, усиливается, но Костромину и в нынешнем возрасте она не была свойственна. Гордость его могла быть уязвлена, особенно если, как он говорил, на него «напяливали дурацкий колпак». Но даже в таких случаях он не разрешал себе стать на одну ступеньку с мелкодушным обидчиком. Возможно, думал Костромин, у Борщева своя правда, и он ее искренне, но, как недалекий человек, защищает средствами, доступными его совести. Костромин твердо верил, что истину навсегда очернить нельзя.
…На вокзале, уже в тамбуре, неловко обняв своего учителя, Максим сказал с надеждой:
— Я не прощаюсь.
— И правильно делаете… До свидания. Поверьте, я не мог иначе. В одном профессор Борщев безусловно прав: работать дальше под его началом для меня совершенно невозможно.
— Мне будет очень не хватать вас, — сказал Максим.
— Я продолжу помощь…
— Да я не об этом.
* * *
Вскоре после отъезда Константина Прокопьевича Борщев вызвал к себе в кабинет Васильцова. Над столом у него висел портрет седобородого академика Чебышева.
Предложив сесть, Борщев мягко сказал:
— Ваш руководитель, Васильцов, дезертировал со своего трудовою поста, не посчитавшись с вами. Мне очень жаль, но в такой ситуации ваше дальнейшее пребывание на кафедре теряет смысл. Аспирант, фактически не имеющий научного руководителя… словом, вы и сами понимаете…
— Вы хотите сказать, что мне надо уйти из аспирантуры? — спросил Васильцов.
— Нет, зачем же, вы меня неверно поняли, — все так же мягко продолжил Борщев. — Напротив, мне хотелось бы вам помочь. При определенных обстоятельствах я сам мог бы согласиться на руководство, — он сделал паузу, может быть, ждал благодарности. — Но это будет легче осуществить, если вы сами откажетесь от прежнего научного руководителя. Думаю, было бы правильно выступить вам на предстоящем общеинститутском собрании и осудить порочные, антинаучные взгляды Костромина. В этом случае вы можете рассчитывать на мою поддержку.
Васильцов онемел от удивления и возмущения. Неужели этот бессовестный человек считает, что он способен на такую гадость?
— Спасибо, — сказал он иронично, хотя легче ему было бы выругаться, — думаю, что ваша поддержка мне не понадобится.
Борщев не уловил ироничного тона:
— Почему?
— Потому, — отрезал Васильцов, — что подобное предложение, мягко говоря, непорядочно. Если вы не согласны со взглядами профессора Костромина, об этом следовало публично заявить, когда он еще работал у нас.
— Да как вы смеете так говорить со мной?! — загремел Борщев. — Я вижу, вам действительно нечего делать на моей кафедре!
— Да, нечего!
— Смотрите, не пришлось бы потом локти кусать.
* * *
На другой день Борщев с негодованием говорил Рукасову о Васильцове:
— Пащенок, подголосок Костромина… Его надо вывести на чистую воду! Он не должен уйти от нас с партийным билетом.
Геннадий, соглашаясь, кивал.
— Знаешь что, — сказал Борщев так, словно эта мысль пришла к нему сейчас, — у Васильцова в анкете есть строчка: «Был на оккупированной территории». Хорошо бы эту строчку, так сказать, расшифровать. Я уверен, что у него мы обнаружим пятнышки, а может быть, и пятна, которые он не прочь замазать. Что, если ты съездишь, так сказать, «по следам героя» и прольешь ясный свет на его биографию?
— Хоть завтра! — с готовностью откликнулся Рукасов.
Рукасов рад был насолить Васильцову. Неприязнь к нему у Геннадия началась с того момента, когда в кругу молодых математиков он рассказал смешную историю о своей «полевой жене» («Вы представляете, в темноте она приняла в хате бутылку с чернилами за одеколон!»), а Васильцов, поморщившись, спросил:
— И это все, что ты запомнил о фронте?
Рукасов во время войны был одним из диспетчеров при штабе инженерных войск, но любил выдавать себя за окопного фронтовика, и вопрос Васильцова задел его за живое.
Как-то он отказался пойти с Генкой в погребок к «дяде Грише», где выпивка выдавалась в кредит:
— Извини, нет желания…
Его, Геннадия, обществом побрезговал!
А в другой раз Васильцов был на открытой лекции у Рукасова и назвал ее поверхностной. Подумаешь — критик!
После резкого разговора Максима с Борщевым Рукасов сказал Васильцову:
— Ты напрасно трепыхаешься. Мой шеф, если хочешь знать, даже свеликодушничал. После того, что твой Костромин сдуру наболтал, все могло обернуться для него еще хуже. А ему позволили уйти по собственному…
— Я знаю, Рукасов, цену такому великодушию… Борщев давно искал случая избавиться от Константина Прокопьевича и нашел предлог. И не стал раздувать, чтобы его самого не зацепило. А тебе еще не надоело пятки ему лизать?