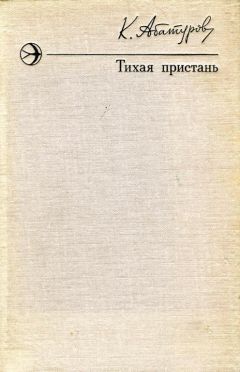— Нет! — повторила Настя. — Я свое выпила в тот раз. Тебе ли не помнить!.. — взглянула она на Степана.
— От дурная, — проворчал дядя.
— Мама, умка, мама, умка… — запротестовал Димка.
— А тебе, сынок, пора спать, — покосившись на распечатанный кулек пряников, сказала Настя. И встала.
Проводив Димку в боковушку, она снова села за стол, но ни к чему не притронулась. Когда шла с пожни, хотела есть, а тут как отшибло весь аппетит.
— Настасья, да ты поешь, чай, оголодала, — сказала тетя, ставя перед ней горшок с кашей.
— Спасибочко, тетя Фрося. Сыта вот как… — провела она рукой по горлу.
Губы дрогнули, глаза часто-часто заморгали.
— Что ты, Настенька, успокойся, — принялся уговаривать ее Степан. — Успокойся, и поедем. Я ведь за тобой и за Димкой. А то мне и так уж попало за тебя. От нового профорга. Знаешь, кто теперь профорг? Витька Елкин. Помнишь, такой цыганистый, со второго участка? Вообще-то он недавно у нас. А тоже голову поднимает, власть показывает…
— Постой, постой… Новый, говоришь? И ты только из-за этого, из-за власти ко мне?..
— Ну, что ты, я к тебе независимо…
— Независимо? — взглянула она в сощуренные глаза Степана и затрясла головой: — Нет, никуда я не поеду. Нет, нет, нет!..
Заплакав, бросилась из-за стола. Но Степан удержал ее. Снова начал клясться, что без нее он жить не может, что большая квартира его осиротела без нее. И повалился на колени.
— Ну что же ты, Настасья? Человек к тебе с открытой душой… — подошел к ней дядя. И, протянув и ей и Степану стопки, сказал: — Выпейте-ка для примиренья…
Настя обернулась к Мирону и, взяв стопку, с горечью усмехнулась:
— Какой ты добрый, дядюшка!.. И что не сделаешь ради твоей доброты…
Выпив одну, она налила вторую стопку и ее опрокинула.
— А теперь — уходите от меня! — приказала и Степану, и дяде. И бросилась в боковушку.
Утром она не могла подняться. Болела голова, все еще не успокоились нервы. Соседка постучала в окно, велела собираться на работу, но она не отозвалась. А когда та ушла, позвала тетю, спросила, уехал ли Степан.
— Уехал, огорчился.
Весь день она пролежала. Мирон ходил, хлопал дверями, ворчал, потом объявил:
— Так ты зачем приехала: курортничать или работать? Ежели курортничать, то мне, старику, что ли, прикажешь идти за тебя на сенокос?
Прошла еще ночь, и та самая, в которую она не смогла сомкнуть глаз, и еще день, не менее тревожный. И вот она в дороге. Рядом со Степаном. Любит же он ее. Если бы не любил, то не приехал! И не огорчался бы. Да, да, об этом и сон говорит. Из воды — к ней. И с этой громадной рыбиной. Покойная мать, верившая в сны, говорила, что вода — к слезам, но если человек вышел и не вымок — к счастью.
Конечно, к счастью. Теперь Степан одумался. Небось самому наскучило одному жить. Не меньше и ему нужна семья.
Она снова посмотрела на него. И, улыбнувшись, подумала: «Я, Степа, верю тебе!»
На рассвете «газик» остановился у большого деревянного дома, в котором квартировал Степан. Введя Настю и Димку в комнату, Степан облегченно вздохнул:
— Вот и приехали. Разденьтесь да отдохните, а я, пожалуй, сбегаю в контору. Начальник рано приходит. — И кивнул: — Димку туда, за перегородку. Погоди, я сам…
Он подхватил мальчонку и уложил его на раскладушке, стоявшей в темном углу. Задернув занавеску, заменявшую дверь, Степан вернулся к Насте, обнял, обдавая ее частым горячим дыханьем. Она как-то оробела, толкнула его, но вырваться не смогла: как клещами держал он ее.
— Ты же хотел идти, Степа, — зашептала Настя.
— Сейчас, сейчас…
Когда он ушел, Настя какое-то время еще лежала в постели. Глядела на перегородку, за которой спал Димка, на окно, на стучавшую в него тополиную ветку. Обратила внимание на занавески, они были грязные, должно быть, со времени ее отъезда ни разу не стирались. А на стеклах — пыль. Пыль была и на тумбочке, и на столе.
«Без меня некому было и прибраться». И пожалела Степана. Потом Настя проворно вскочила, надела сарафан и побежала в кухню, там разыскала тряпки, таз и принялась за уборку квартиры. Она очень торопилась, чтобы успеть все сделать к приходу Степана.
И верно, она все успела, даже выстирать занавески и его спецовку, пропахшую бензином, перемазанную серой краской. Приведя все в порядок, Настя встала в сторонке, чтобы увидеть, как будет входить Степан, как в его глазах засветится улыбка.
Его долго не было. Настя не раз подбегала к окну, глядела на дорогу. Нет, дорога была пуста. Но вот в коридоре послышался негромкий топот. Его шаги. Только он, Степан, так тихо ступает.
Вошел Степан. Он ничего не заметил. Вошел, сбросил с плеч куртку, прошагал взад-вперед по комнате и остановился перед Настей.
— Чай пила? — спросил ее.
Она отрицательно покачала головой.
— Давай по-быстрому да в контору. Начальник там, Ох, и зол. Кто-то, видно, дохнул ему. Может, новый профорг. Завистников-то хватает… Тебя вызовет, так ты ни-ни насчет писем и прочего.. А будет спрашивать, почему уезжала, скажи, что из-за Димки. Свежий деревенский воздух парнишке нужен и все такое… Поняла?
Настя молчала. Взгляд ее тускнел.
— Поняла, спрашиваю? — повторил Степан.
Настя еще плотнее сжала губы.
— Дождусь я ответа или нет? — свел он брови, и глаза его похолодели.
«Велит говорить неправду. Но как же это? — не понимала Настя. — Чего он так боится? Ведь мы же опять вместе…»
Из-за перегородки послышался голос Димки. Он лепетал, что выспался, что хочет пить. Настя встрепенулась.
— Ну и вставай. Сейчас попьем чайку. Ты тут останешься ненадолго, а мы с папой сходим в контору. Нам надо… — Она не договорила и опять поймала на себе хмурый взгляд Степана.
Начальник принял ее одну, Степану велел подождать за дверями. Разговаривал с ней в присутствии нового профорга. Поглаживая седой висок, начальник спросил, надолго ли она приехала. Настя сказала, что насовсем, что в следующую субботу Степан поведет ее в загс.
— В загс? Так-так… Надумал-таки. А тут разговоры было пошли: развинтился мужик, загулял. Да-а… Работу тоже запустил. Мне вот и приказ принесли на подпись — снимать хотим.
— Ой, да что вы на него… — вступилась она за Степана. — Никакой он не гуляка, и все зря про него… Уж вы не трогайте его.
— Что ж, — проговорил начальник, — поверим заступнице.
Начальник встал, поднялась и Настя. Надо бы благодарить его, но она не могла. К горлу подкатил комок. Она поспешно повернулась и вышла. Степан, как только оказалась она за дверями, схватил ее за руку, говоря, что все он слышал, что Настя умница. Но она вырвала руку и бросилась на улицу. В голове стучало: обманула, обманула…
Шла, слыша только этот страшный стук да еще шаги Степана, догонявшего ее и не понимавшего, почему она нервничает, выходит из себя? Ведь все получилось хорошо, лучшего и ожидать нельзя. Он догнал и тронул ее за плечо. Ее глаза обожгли слезы.
Что же это за любовь, если она построена за лжи, на обмане? Да и любовь ли это?
Она опять ускорила шаг, оставляя позади Степана. На дороге встречались знакомые, окликали ее, но она проходила мимо, не останавливаясь. Только на мгновенье задержалась, когда услышала, как кто-то вслед ей сказал: «Наверно, Степан обидел, слышно, какую-то привозил недавно…»
Но эта фраза лишь подстегнула ее, и она еще больше заторопилась. К сынишке, с которым должна сейчас же уехать в деревню, в колхоз.
Набежал ветер. Настя увидела, как он подхватил с дороги пожухлые листья, покрутил их в воздухе и, швырнув в канаву, помчался дальше, подхватывая на пути другие листья. Ветер, конечно же, играл.
I
Встреча была неожиданной. Кузя Восьмухин ехал с дальнего лесного урочища домой, на свой кордон. Вечерело, мела поземка. Гнедой, всхрапывая, мотая головой, бежал без понуканья.
Вот сейчас дорога перемахнет через куртину соснового молодняка, потом пересечет гуменское поле и свернет в густой ельник. А там рукой подать и до кордона, до незамерзающей Ключевки, на берегу которой и стоит его небольшой дом, до окон занесенный снегом. Мать, наверно, уже затопила печку. Хорошо будет обогреться с дороги, а потом сесть за стол и, выслушав всегдашний материнский упрек, что не бережешь-де себя, вечно уезжаешь без еды и голодаешь там, — взять из ее рук полную тарелку горячих щей.
Оголодал он вправду изрядно. Еще бы: с утра мотался по урочищу, клеймил деревья. Даже руки устали махать. Раньше вместе с отцом ездил отпускать лес, а теперь приходится одному — батя заболел, видно, надолго. Утром, правда, просилась мать, чтобы, как она говорила, взять хоть частичку ноши с его неокрепших плеч. Но он храбрился: «Вот еще! Нашла ребенка!» Ему, молоденькому, еще безусому пареньку, как и всем другим в подобном возрасте, хотелось выглядеть совсем самостоятельным.