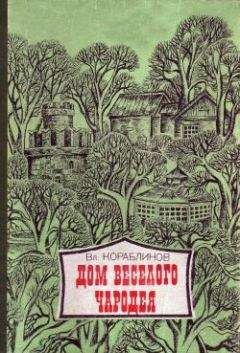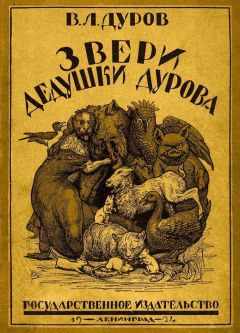«Расширение ротового отверстия»… Ничего себе сказано!
Мутный декабрьский рассвет заставал его, увлеченного сочинением о смехе. В строгом, сосредоточенном человеке трудно было угадать всемирно известного весельчака, короля шутов. Что-то скорбное отчетливо проступало в чертах красивого лица.
Особенно в левой брови, изломленной трагически.
Музицировать собирались по-прежнему – раз в неделю.
По-прежнему в маленькой гостиной величаво и сладостно звучали классики.
И негромкие разговоры шелестели за чайным столом по-прежнему – о погоде, о военных неудачах, о коварстве англичан, о новинке – движущейся фотографии – синематографе.
И прежним оставался весь обиход небольшого дома на тихой, тишайшей уличке; и трое друзей выглядели как будто все так же, разве только старик Терновской несколько сдал, усох, сморщился.
Все так же, все по-прежнему, но что хотите, а в доме чувствовалась растерянность, тревога. Отголоски событий последних месяцев долетели и сюда, в этот, казалось бы, от всего мира надежно отгороженный уголок с чистенькими особнячками, кротко глядящими на улицу, с крепкими дубовыми дверями под фигурными железными навесами, с начищенными медными блюдечками звонков, по ободку которых – черненая надпись: «прошу повернуть».
– Что же это, господа? – в тревоге, в смятенье спрашивали друг друга. – Что же это творится на белом свете? Что? Что? – И не находили ответа, а лучше сказать – боялись его найти.
Ибо творилось страшное, непостижимое.
Расстрел на Дворцовой площади в Петербурге на всю Россию прогремел. Длинной, гулкой волной над великими снежными просторами прокатился его жуткий отзвук и, как бы застыв, надолго остался, повис в морозном воздухе. Скарлатти и Гендель оказались бессильны заглушить его своими ангельскими хоралами.
И не клеился разговор за чаем, и ни синематограф, ни коварство англичан не могли его оживить, придать приятную легкость и умиротворенность. А ведь так еще недавно беседы эти застольные вместе с музыкой были усладой и отдохновеньем от житейских дрязг.
Неприятности нынче роились, как мухи.
Ну, у Терновских, тут и говорить нечего, беда наибольшая: Александр. Два года ссылки в места не столь отдаленные, навсегда и решительно испорченная карьера. Будущее вечного конторщика с восемнадцатью рублями жалованья.
Но, представьте, и Семен Михайлович не обойден печальными обстоятельствами; при всей своей выдержке и непроницаемом спокойствии вынужден признать, что общее веянье неурядиц и его коснулось: магазинные приказчики требуют надбавки, дела пошатнулись.
Кругом – политика, политика, политика. Смута.
И лишь скромнейший Кедров вне политических сотрясений и усобиц. Его неприятности домашнего, так сказать, свойства: супруга Раечка наболевший вопрос поставила ребром: я и л и э т и т в о и ш т у ч к и! Под ш т у ч к а м и подразумевались прилежные и бескорыстные занятия мужа театром и музыкой.
Отречение от искусства было равносильно погибели. Но ведь и Раечку скидывать с житейских счетов не приходилось…
Так сидели друзья, лениво водя смычками, и не бессмертное «Сотворение мира» великого Гайдна занимало их воображение, а страшные, непостижимые дела того мира, что бурлил за синими вечерними окнами уютного дома: там скрипящие на снегу топали шаги и кто-то крикнул протяжно, кто-то пробежал наружи вдоль стены, дробно на бегу стуча в стекла, явно озоруя и вызывая на брань…
В это время раздался резкий звонок, и смолкла музыка, задохнулась; бессильно опустились смычки, и друзья переглянулись тревожно: кто?
Быстрые шаги из передней по коридору.
– Послушайте, отцы-пустынники! Там революция, а вы…
В распахнутой дорогой, запорошенной снегом шубе, раскрасневшийся, весело пахнущий морозцем, стоял в двери, искренно недоумевая, как это можно спокойно сидеть за нотными тетрадями в этой чистенькой, теплой комнате с голубыми в цветочках обоями, когда…
– Как раз к чаю, – сказал старик Терновской. – Милости просим.
– Какой чай! – воскликнул Дуров. – Одевайтесь, господа, идемте… Это надо видеть, такие события! Ну?
Он торопил, но они не спешили.
– Полноте, какая революция! – Чериковер покривился презрительной гримасой. – Ну, соберется мастеровщина, пошумит…
– Эксцессы не преминут быть, – как-то странно, коверкая русскую речь, заметил Сергей Викторович. – Чистое безумие встревать сейчас… в эти…
– А я, пожалуй, домой пойду, – неуверенность слышалась в голосе Кедрова. – Раечка, верно, беспокоится…
– Ах, Раечка! – фыркнул Дуров. – Скажите пожалуйста! В таком случае – оревуар!
Раскланявшись комически-церемонно, круто повернулся к двери.
– Постой! – вдогонку крикнул Чериковер. – И я с тобой!
– Ну вот, – вздохнул Сергей Викторович, – как хорошо было, сидели себе тихонько, музыкой наслаждались… Ах, беспокойный человек!
На пустыре Старого Бега факелы пылали.
Красноватые отсветы дрожали на вычурных кирпичных стенах Народного дома, на огромных окнах нового среднетехнического училища. А там, где город сваливался под гору, в Ямки, чернела мглистая ночь с далекой цепочкой мутных огоньков на станции Отрожка.
Уже несметная толпа теснилась на Старом Бегу, а люди все шли и шли. Через перекидной мост – с Троицкой, с Привокзального, шли с Грузовой, с нижних улиц. В толчее людской случайный извозчик застрял, дергал вожжами, выкрикивал ошалело: «Эй, поберегись!»
– Сам берегись, борода! – Веселый малый-озорник в картузе с поломанным надвое козырьком вскочил в санки, развалился, дурачась.
Двое пожилых, в замасленных полушубках, – видно, со смены, – выволокли малого из саней.
– Нашел время, оголец!
И тотчас крик врезался в толчею, в неразбериху многолюдства: «Товарищи!»
Невидимые сильные руки подняли человека, поставили в санки. Щуплый, болезненно-бледный, с черными наушниками из-под шляпы, он, казалось, на ладан дышал, и вдруг, поднявшись на облучок саней, над темной, шевелящейся массой толпы, загремел неожиданно могучим басом:
– Слышали про злодейство, товарищи? Ведь это что! Безоружных расстреливали! Вот так… царь-батюшка… рабочий народ встретил! Их кровь… то-ва-ри-щи… взывает… к отмщению, к расплате! Кровь… братьев наших… товарищи!
По мерзлой земле конские копыта застучали. В багровом свете факелов, в дымном чаду, в колеблющихся облачках пара от дыхания сотен людей замелькали верховые. Они окружали, что-то крича, появлялись то тут, то там, наезжая лошадьми на крайних.
– Полиция! Полиция!
Тревожными вспышками приглушенных восклицаний всколыхнулась толпа:
– Спокойно, спокойно, товарищи!
– Не робей, ребята!
– Слушай, – сказал Чериковер. – Надо уходить… Ей-богу, с нашей стороны это просто фанфаронство какое-то…
– Теперь уж не уйдешь, – усмехнулся Дуров. – Полиция не может пробиться, а то мы…
Они выделялись среди всех своими холеными, румяными лицами, дорогими шубами, благоуханьем тонких духов и длинных папирос с золотыми клеймами на мундштуках. Семен Михайлович как-то особенно ощущал свою чужеродность в этой серой, грязноватой толпе; он съежился, даже ростом сделался поменьше. А Дуров? Весело, задиристо поглядывал из-под бобровой шапки, продирался плечом поближе к саням. На слова Чериковера обернулся, сверкнул ослепительной улыбкой: «не уйдешь!»
И Семен Михайлович с удивлением подумал, что этот изящный, франтовато, дорого одетый человек, знаменитый артист, здесь, среди множества разгоряченных, озлобленных мастеровых, – свой. Вот полюбуйтесь: в тесноте, в сумятице навалился на чумазого детину в рваной кацавейке, и тот только крякнул, добродушно огрызнулся: «Полегче, полегче, товарищ!» А по Чериковеру скользнул темным взглядом враждебно, с неприязнью. «Ты-то тут, барин, чего потерял?» – сказал с нехорошей усмешкой и загородил дорогу широкой, в грубых заплатах спиной.
Человек в шляпе с наушниками не кричал – трубил:
– Так что же… товарищи! Ждать… будем? Когда и нас, как в Питере… расстреливать станут… царские сатрапы? Не-е-ет, товарищи! Не с хоругвями… не с иконами пойдем! Всеобщая стачка, товарищи! Вот наш ответ… палачам! За все… за нищету нашу! За кровь… пролитую… питерскими братьями! Все-об-ща-я стачка… То-ва-ри-щи-и!
Где-то женский вскрик раздался надрывный, пронзительный. Где-то, как вольного ветра порыв, вспыхнуло:
– Господа! Господа! Честью прошу…
Над конским храпом – краснорожий, в седых, морозных усах, в башлыке, похожий на косматого пса.
– Рра-зой-дись!
– Анатолий Леонидыч, голубчик…
Чериковер тянул Дурова за рукав, пытаясь выбраться из темной людской кипени к освещенному подъезду Народного дома. Но что-то уже произошло в толпе: тяжелыми, медленными волнами разливалась она в разные стороны – к железнодорожным путям, под гору, в Ямки, на Грузовую. Извозчик хрипло кричал на ошалевшую лошаденку, размахивал кнутом, трудно, с остановками продвигаясь в сторону Большой Дворянской.