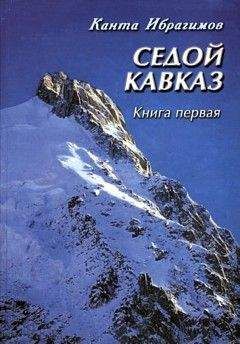«Кто ж эт такой? — подумалось Яшке. — Острожный каторжник аль разбойник?.. Да нет, глаза у него хоть и желтые, но больно ласковые… У разбойников таких не бывает», — заключил Яшка, хотя ни одного разбойника в жизни видеть ему не доводилось.
Пугнул коров пастушонок и тяжело зашагал на подъем. С бугра оглянулся — сквозь редеющий, розоватый в лучах зари туман над водой на том берегу различил две фигуры: одна вроде бы девка, шикарно разряженная, другая, чуть повыше, серая, плохо в тумане различимая — это он. И скорехонько так ушли с берега.
Всех девок хуторских в уме перебрал Яшка, пока до табуна двигался — никто из них так не одевается.
День этот показался ему бесконечным; в голове все так же шумело, глаза слезились, временами терялся слух. Порою вспыхивала в нем горькая обида на Кестера, но Яшка глушил ее, признавая и свою вину. А чтобы отвлечься, старался думать о странном человеке и о том, кто его встретил. Девка, видать, не из хуторских, тоже чужая… Или, скорее всего, это не девка совсем и не так уж она шикарно наряжена, как показалось сквозь туман, а бабка Даниных, Матильда. Вот она-то, пожалуй, как раз и носит этакую одежу. И бодрая она у них, как солдат, прямехонько держится.
Правда, Яшка не смог бы сказать определенно, была ли то бабка Матильда, к ней ли пришел незнакомый человек — не до них ему. Обида гложет. Хоть бы поговорить с кем-нибудь, полегчало б, наверно. Да с кем же говорить-то?
Промаялся так парнишка до вечера. Ужином тетушка Берта кормила его отдельно и от своей семьи, и от женщин-работниц. Работников мужчин Кестер не признавал: хлопотно с ними. Удобней, считал он, нанимать баб, каких поглупее, поздоровее, да ребятишек.
— Ты чего же, Яков, работал плохо, — заметила, улыбнувшись, тетушка Берта, когда пастушонок отодвинул от себя миску с недоеденной похлебкой, — или суп мой тебе не хорош?
— Жарища на дворе-то день-деньской, — схитрил Яшка, — разморило страсть как. — Ни ей, ни даже отцу родному или матери не собирался он жаловаться на Кестера, рассказывать о своем горе: никто не похвалит за это.
— Вот попей молока и спи, — сказала Берта. — Да в другой раз при Иване Федоровиче не оставляй еду: он не любит таких работников.
Известно и без того, каких работников не любит Кестер. Предки его когда-то обосновались в Центральной России. Там и теперь еще много родственников у Кестера. Но кроме фамилии да немецкой расчетливости и аккуратности, ничего, пожалуй, не отличало Ивана Федоровича. Родная речь редко слышалась в доме. Сыновей тоже назвал по-русски — Александром и Николаем.
Спал Яшка тут же на кухне возле печи на низенькой лежанке, и думалось ему, что, добравшись до постели, уснет он в ту же минуту. А как лег, вроде и сон отскочил — торчат перед глазами злющие Кестеровы зрачки да усы щетинятся. И никуда от них не спрячешься.
Укроется Яшка с головой хозяйской дерюжкой — то же видение перед глазами, а от духоты еще сильнее в голове шумит. Откинет дерюгу — дышится легче, так опять же хозяева тут ходят, разговаривают, тетушка Берта посудой побрякивает.
Раньше Яшка не примечал за собой этакой разборчивости: уснет, бывало, хоть из пушки пали — усталость свое берет.
Наконец угомонились все. Тихо так стало, покойно. Только часы на стенке тикают. Яшка дремать стал, уткнувшись носом в опечек. И тут вроде бы сквозь сон послышалась негромкая плясовая дробь. Шевельнуться нет сил, а за спиной не смолкает все более шумный залихватский пляс.
Не выдержал Яшка, повернулся и обомлел. В двух шагах перед ним отплясывает маленький, не больше самого Яшки, старичок. Легонький, шустрый такой, сухонький, как игрушечный, будто точеный весь. Борода у старичка редкая, длинная, размашистая. Усы шильями в стороны торчат, брови колючие, глаза озорные, навыкате. На голове у него какой-то блестящий колпачок. В одном ухе серьга. Лицо сухое, темное. А на ногах — высокие, с козырьками, блестящие сапоги.
Приближается старичок к Яшкиной лежанке — плечами подергивает, перстами прищелкивает, заговорщически подмигивает и бойко так начинает посвистывать:
— Фьюйть! Фьюйть! Фьюйть!
А потом пускается в лихой пляс. И так до самого утра никакого сладу с ним нет.
И такое каждую ночь. От бессонницы совсем парнишка измучился, похудел. Изводит его старичок исподволь, не спеша. Трепещет Яшка, боится, когда ночь-то подходит. Только улягутся все, вот он и является, старичок, точно из-под земли выныривает. И пошел, и пошел отплясывать. Пляшет бойко, азартно посвистывает, каблуки так и дробят, и ноги мелькают перед самым носом. Нет сил у Яшки отвернуться к печи. А он, проклятущий, без устали пляшет и пляшет! С вечера до утра. Где же тут уснешь! Плачет мальчонка, а старичок, будто еще больше рад этому, выхаживает по всей кухне, кочевряжится.
После двух недель такой жизни Яшка совсем походить на себя перестал. Утром как-то глянула тетушка Берта — лица на парнишке нет; весь в слезах, и подушка мокрехонька.
— Что ты, Яков? — хлопнула руками по огромным бедрам тетушка Берта. — Что с тобой? Говори!
— Ничего, — всхлипнул Яшка, — старичок проклятый все ночи спать не дает. — И горькие рыдания безудержно захлестнули его.
— Яша, Яша! — не на шутку перепугалась хозяйка. — Ты что-то не то говоришь… Какой старичок? Ведь у нас в доме нет ни одного старого человека.
— Да это, наверно, и не человек, — дал волю слезам Яшка, — вот такой малюсенький, меньше меня, или такой, как я, а с бородой и с усами. В сапогах…
— Это еще что такое?! — грозно спросил Иван Федорович, выходя из комнаты.
— Т-сс! — Берта прижала палец к губам и погрозила мужу. — Мы сами тут разберемся… Так каким же способом он спать тебе не дает?
— Пляшет!
— Пля-аш-шет? — большие глаза у Берты сделались квадратными.
— Ну-у! По целой ночи вот тут выплясывает… Вот на этом самом месте!..
— И давно пляшет? Что-то он, кажется, никому не встречался…
— А он без всех приходит, когда я один останусь…
— М-мм, — поджала полные губы тетушка Берта. — И давно он к тебе приходит?
— Давно-о…
— Веди-ка ты его к ним домой, мамочка, — жестко, но все же несколько смягчившись, приказал Кестер.
— Уведу, уведу. Ты ведь коня запрягать пошел, папочка? Вот и запрягай. А мы сейчас пойдем.
Иван Федорович фыркнул в короткие усы, накинул на голову соломенную шляпу и сердито вышел.
— Ты, Яша, поешь, пока я соберусь.
— Да не хочу я, тетушка Берта!
— Поешь, поешь обязательно.
Эта громадная женщина, не лишенная доброты, имела твердую привычку: по хутору должна она идти непременно в шляпе, с зонтиком в виде трости и немного подкрасившись. Дома одевалась, как и все, просто. По тому-то усадила она Яшку за стол, а сама занялась туалетом.
Минут через двадцать, приодетая и по заведенному ритуалу экипированная, тетушка Берта вышагивала рядом с измученным, пожелтевшим и неумытым Яшкой. Бедняга до того извелся и отощал, что даже лапти казались ему невыносимо тяжелыми, оттого запинался он ежеминутно, подымая пыль на дороге.
— Ох, чегой-та, знать, стряслось! — встретив их во дворе, тревожно воскликнул Леонтий.
Манюшки дома не оказалось — коров она угнала в табун и еще не вернулась.
— Доброе утро… — растягивая слова, будто сообщив нечто приятное, пропела Берта. — Немножко заболел ваш мальчик.
— Ах ты, грех-то ведь какой! — сокрушался Леонтий. — Чего ж у его болит-то?
— Не болит у меня ничего! — возмутился Яшка. — Спать хочу…
Вежливо осадив парнишку, тетушка Берта рассказала все, что знала и что думала о его состоянии.
— Отслужил наш работничек, стал быть, — горько вздохнул Леонтий, запустив пятерню в спутанные жидкие волосы.
— Но у вас есть другой мальчик, — заметила Берта. — Пусть он пока пасет, а когда этот выспится, ну, поправится, то снова вернется к нам… Так, Яша? Ты ведь к нам придешь?
— Приду, — всхлипнул Яшка, — ежели там старика не будет…
— О, конечно, старика мы прогоним, только ты брату про него не говори, не пугай его.
— Поди, побуди Семку, — распорядился Леонтий, давая этим понять Берте, что он согласен отправить к ним младшего сына.
А нанимательница, словно бы опережая мысли Леонтия, утверждала его согласие:
— У нас выгон, сами знаете, рядом с домом. Лесу на нем почти нет. Волки так близко не подойдут — справится мальчик…
Минут через пять новый маленький пастушонок, обутый в лапти, с перекинутой через плечо одежкой, шагал рядом с большой и нарядной Бертой.
«А ведь у их и свой такой же парнишка есть, как Яшка наш, — глубокомысленно рассуждал сам с собою Семка Шлыков, протирая заспанные глаза. — Чего ж Колька ихний пасть свою скотину не идет? Вот ведь богачество-то — всему голова!»
4
Как только бабы прогнали со двора скотину в табун, закипел рословский двор, как муравейник: всем кизяк делать сегодня. Даже недельной стряпке, Настасье, приказал дед Михайла заготовить варево для обеда и быть вместе со всеми. Только Степке велел остаться пока при нем.