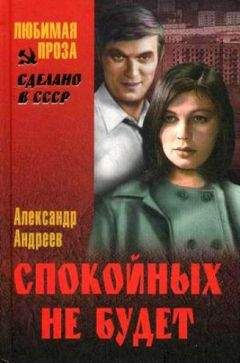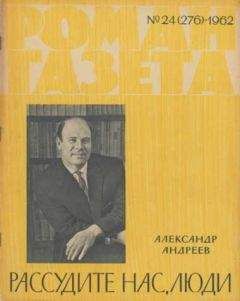Названов смущенно развел руками.
— Вот и я растерялся. Я, который смотрел на девчонок, как на забаву, потому что ни одна из них меня ни разу серьезно не задела. А если не задела, то о словах и не думаешь. А они как раз и приходят самые неожиданные, и мысли появляются оригинальные, и юмор рядом. Когда не ставишь себе цель понравиться, нравишься больше. Это истина. А вот когда хочешь высказать про свое сердце, про его боль — куда все девается! Становишься косноязычным и неловким.
«Ну да, неловким!»—подумала я, вспомнив тот новогодний вечер, и его тяжелые руки, и горячий шепот; я отвернулась, чтобы скрыть гримасу отвращения.
— Женя, я люблю вас,— сказал Названов глухо, стесненным голосом.— Никогда никому не говорил этих святых слов и, казалось, потерял надежду сказать их. Я счастлив, что сказал их вам, самой лучшей из всех, кого я когда-нибудь встречал. Выходите за меня замуж. Пожалуйста...
Теперь остановилась я, изумленная, встревоженная, и Гриня обернулся ко мне; он и в самом деле выглядел растерянным, настороженным, точно испугался сказанных слов.
— Что? — спросила я.— Замуж? Но ведь я замужем. Вы знаете об этом. Как же вы смеете предлагать мне...
Он виновато улыбнулся, потупясь.
— Знаю. Но мне думается... Я убежден, что вы несчастны. И это дает мне право предложить вам... новое счастье. Настоящее, большое...
— Вы бы сперва спросили, счастлива я или нет, прежде чем делать такой странный вывод. Идемте.
Я шла по улице, не замечая, что иду. В груди теснилась тоска от охватившей меня тревоги и беспокойства. Во мне боролись два чувства, смыкаясь и расходясь: он вызывал неприязнь прежней своей самоуверенностью, скептическим прищуром глаз, цинизмом, исключающим все святое и чистое, и привлекал сейчас искренностью, застенчивым признанием, которое привело его в смущение, как мальчишку,— я верила в то, что он говорил искрение, и в груди у меня затеплилась жалость. О сердце женское, как охотно ты ловишься на жалость, на покаянный вздох, на признание! Оно сейчас же, слепо, бросается на помощь несчастному.
Навстречу нам мчались автомобили, стаями, скопом, разбрызгивали накиданный на мостовую снег. Спешили пешеходы, часто задевая меня плечами, сумками, но я как бы не видела ни машин, ни людей, не чувствовала их толчков — все это уносилось мимо, не касаясь меня, в небытие. У меня вспотели от напряжения ладони, и я сняла варежки. Гриня проговорил негромко, с покоряющей робостью:
— Вам нелегко жить, Женя, я знаю, я чувствую это и хочу облегчить вашу участь. А я был бы счастлив, если бы вы разделили мою судьбу. Я устал, Женя, я смертельно устал. От бедности. Одна вы можете сделать меня богатым. На всю жизнь.
Не знаю, всем ли женщинам говорят такие слова, всем ли женщинам, с которыми встречался Гриня, говорил он такие же слова, не знаю. Но душа моя сладко сжималась от них и голова чуть покруживалась.
Долгое время мы шли молча: все важное, главное, что нужно было сказать, уже сказано, другое не шло на ум, казалось ненужным.
— Вот мы и пришли.— Я остановилась у подъезда своего дома.— Прощайте, Гриня.— Я протянула руку, он не принял ее, печально улыбнулся, взглянув мне в лицо.
— Пригласите меня к себе,— попросил он.— Я знаком с вашей мамой. По телефону. Я разговаривал с ней несколько раз.
— Вот как! О чем же?
— Так. О жизни. Она позволила мне, если я встречу вас и провожу до дома, зайти и познакомиться лично.
Я насторожилась, пристально взглянув на него. А вихрь уже несся на меня, чтобы завертеть! Я поняла, что между Гриней и мамой помимо меня происходил какой-то сговор. Какой же, интересно?
— Идемте, если вам позволили.— Я указала на входную дверь.
Мы поднялись в лифте на четвертый этаж, я отперла дверь своим ключом. В передней, как обычно, хранился полумрак, было тепло и тихо..
— Раздевайтесь,— сказала я Названову.
Он повесил пальто на вешалку, на полку сверху положил шапку.
— Куда прикажете?
— Сюда, направо.
Из глубины квартиры послышался голос мамы:
— Кто пришел? — Она появилась в передней.
— Я, мама.— И тут же поправилась: — Мы...
— Что же вы копаетесь в потемках? — Она включила свет и, откинув голову, сунув руки в карманы костюма, пристально посмотрела на Гриню.
Я поспешила представить его:
— Это Названов, мама, Григорий... Не знаю вашего отчества.
— Григорий Павлович,— подсказал он и поклонился маме: — Здравствуйте.
Мама благосклонно подала ему руку.
— Вот вы какой... Я пыталась представить вас...
Названов не дал ей закончить, опередив вопросом:
— Надеюсь, своим появлением я не разрушил вашего представления обо мне?
— Нет.
— Благодарю вас,— сказал Гриня.
— Проходите, пожалуйста.
«Какая изысканность! — отметила я про себя.— Как мама любит такие реверансы вежливости...»
Мы прошли в столовую. Мама, должно быть, уверена была, что я приведу гостя, и все подготовила заранее: стол был накрыт свежей скатертью, поставлен сервиз, который она без разрешения не позволяла трогать.
— Вы поужинаете с нами, Григорий Павлович? — спросила мама.
— С удовольствием,— ответил Гриня.— Только сейчас я вспомнил, что ничего не ел с утра.
— Садитесь сюда, тут вам будет удобнее. Что это за важная причина, которая обрекает вас на голод? Нельзя относиться к себе так небрежно.
Названов взглянул на меня. Я заметила, что он изменился, похудел; на щеках возле губ обозначились морщинки; они скрадывали привлекательную холеность, подчеркивали бледность.
— И аппетит потерял, и сон потерял, — ответил Гриня с улыбкой покаяния.— И причиной этому, Серафима Петровна, ваша дочь Женя. Скрывать это или хитрить не хочу, да и не имеет смысла.
Мама выпрямилась, помолодевшая и гордая, потемневшие глаза распахнулись во всю ширь и зажглись, и я определила, что она гордилась собой: у нее, Серафимы Кавериной, жены генерала, Героя, у нее, доктора филологических наук, дочь может быть только такой, из-за которой молодые люди обязаны, забывать и про еду и про сон. Она строго взглянула на меня, намереваясь произнести что-то веское и назидательное. Но вошла Нюша. Няня, оглядев своими быстрыми глазками столовую, стол, маму, Названова и меня, сразу смекнула, в чем дело.
— Вина принести? Или водку будете?
— Григорий Павлович,— обратилась мама к Названову,— что вы больше любите?
Гриня ответил поспешно:
— Все равно. Лучше водку, пожалуй. А еще лучше — ничего.— От волнения на лбу у него выступил пот, и он смахнул его ладонью, а влажную ладонь вытер о волосы.
Я тихо спросила его:
— Что с вами?
— Не знаю. Душа дрожит, честное слово. Никогда такого не испытывал...
Мама приказала Нюше:
— Свари кофе. Нет, я сама все подам.
— Вот и ладно! — Нюша подмигнула мне чуть-чуть. Это заметила только я одна.— По телевизору хоккей показывают. Посмотрю.— Уходя из комнаты, она шепнула мне: — Не соглашайся.
Когда на столе все было приготовлено для ужина, мама села уже прочно и несколько торжественно, чтобы начать интереснейшую беседу «о моей судьбе».
— Продолжайте, Григорий Павлович,— сказала она.— Почему же вы лишились аппетита, покоя?
— Полюбил, Серафима Петровна. До этого, до нее, такого чувства не испытывал ни к кому. Так уж случилось...— Он не сказал это, а как будто доложил: просто, кратко и деловито.
— Что же она вам ответила?
Я сказала, что мне самой стало известно об этом только час назад.
— Это верно,— подтвердил Гриня.— Я долго боролся со своим чувством, думал его победить, как это случалось прежде, но не смог. Серафима Петровна, я предложил вашей дочери выйти за меня замуж.
Мама требовательно поглядела на меня распахнутыми глазами, в глубине их стояла грозовая темень.
— Она, конечно, сказала вам, что замужем?
— Да.
Мама резко встала, прошлась по столовой.
— Это ее любимая отговорка! Заслон. Зачем ты вводишь людей в заблуждение?!—крикнула она.— Разве ты замужем?
Я тихо позвала ее, напоминая:
— Мама...
Она, как бы очнувшись, села на место, дрожащими пальцами вынула из пачки папиросу, закурила, укрощая в себе гнев, ноздри короткого, красивого и энергичного носа чуть вздрагивали. «Все в ней сейчас клокочет»,— подумала я с улыбкой.
Гриня с недоумением наблюдал за мамой, сожалея о том, что вызвал в ней взрыв негодования. Я ободряюще кивнула ему: ничего, мол, это бывает, это у нее пройдет.
— Позвольте мне выпить? — спросил он и взял рюмку за высокую и тонкую ножку.
Мама спохватилась:
— Да, да, пожалуйста. За ваше здоровье, за успехи...
Гриня поставил рюмку и опять провел ладонью по вспотевшему лбу, по волосам.
— Я кандидат физико-математических наук,— заговорил он,— Но я на этом не остановлюсь, пойду дальше. Мне только двадцать девять лет. У меня все впереди. Академик Алебастров относится ко мне внимательно, ценит меня и помогает. Мне нужен помощник в жизни, товарищ, жена. Таким человеком могли бы стать вы, Женя.— Он уже осмелел, морщинки у рта исчезли, в жестах, в развороте плеч, в голосе появилась прежняя барственная медлительность от ощущения своей силы и значительности, то, что выделяло его среди других, что привлекало и отталкивало одновременно.— Вам никогда не пришлось бы сожалеть о прежнем или раскаиваться в чем-то. Это я вам гарантирую. Я не позволял бы вам скучать. Никогда! Мы стали бы совершать путешествия за рубеж. Каждый год. Франция, Италия, Япония...