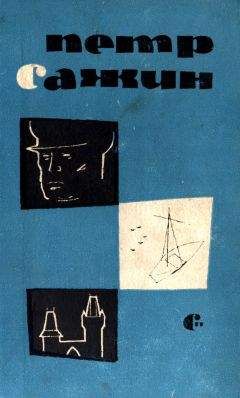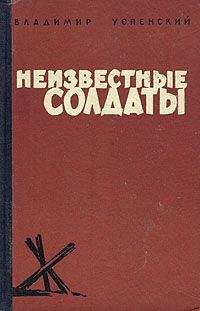— Ты чего задумался, Проша? Выпьем?
— Налей… Мальчик слишком широко шагает, Степаныч. Не пора ли его остановить?
— Гитлер не мальчик. Ты еще под столом ползал, а он уже на той войне ефрейтором был.
— Знаю. Но остановить пора.
— Он и так остановится. Гляди, на карте коричневое с красным столкнулось.
— Это и тревожит.
Ермаков закатал рукава пижамы, по локоть обнажил волосатые руки. Осторожно налил в рюмку спирт. Подвигая гостю тарелку с бужениной, спросил:
— Ты к верхам ближе, что у вас там думают?
— Линия прямая. Мы за мир. «Нас не трогай — мы не тронем. А затронешь — спуску не дадим». И сдается мне, Степаныч, что наши не так Гитлера опасаются, как англичан с американцами. Не их самих, конечно. Боятся, что спровоцируют они нам войну с Германией.
Ермаков молча пожал плечами: в политике он разбирался туго, предпочитал слушать.
— Вот такие дела, Степаныч. Это мое мнение… Впрочем, у тебя речь Иосифа Виссарионовича на Восемнадцатом съезде имеется?
Ермаков, не вставая, протянул руку и снял с этажерки брошюру. Порошин перелистал ее.
— Ага, вот! Слушай, что Сталин говорит. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками… Ну, Степаныч, в чей огород этот булыжник? Адрес точный. Всем известно, кто каштаны из огня чужими руками таскать привык.
— Булыжник увесистый, — сказал Ермаков.
— Тут все правильно, — продолжал Порошин. — Беда только в том, что у нас до черта перегибщиков. Своих мыслей в голове нет, а как директиву получат, так и жмут напропалую. Гнут в одну сторону, не оборачиваясь. Не понимают того, что любую правильную идею чрезмерным усердием можно довести до абсурда… Есть, Степаныч, у нас такие, что на немцев рукой махнули. Сказано: англичане, провокация — ну и все! А Гитлер чуть ли не в друзьях ходит. Недавно стало известно, что немцы часть сил перебрасывают из Франции в Восточную Германию. Ну, а наши не верят: как это так перебрасывают? Гитлер армию демобилизует, у нас договор! Это англичане, дескать, фальшивку пустили… Десять раз проверяли. Убедились в конце концов, что ночью бывает темно, а днем — светло.
— Ты бы, Прохор, поменьше критику наводил. Ну, когда со мной разговариваешь, это ладно. А то ты небось и при чужих людях распространяешься. А люди всякие бывают. И в дневник, наверно, записываешь?
— Пишу, — неохотно ответил Порошин.
Он всегда испытывал неловкость при упоминании о дневнике. Это было его давнишнее пристрастие, его сугубо личный секрет, о котором знал только один Ермаков.
— Вот-вот, ты не очень-то распространяйся в своих тетрадках, — сказал Степан Степанович. — Дневник — это, брат, документ. Не дай бог, попадет в чужие руки.
— Он у меня в сейфе, — усмехнулся Порошин.
— Кому надо, тот и из сейфа достанет… Ты больше на свои личные переживания упор делай, а службу не трогай.
— Ладно, учту столь ценное предложение… Выпьем, что ли, за все хорошее?!
— Твое здоровье.
В комнату стремительно ворвалась Неля с портфелем под мышкой. Серая жакетка переброшена через плечо. Волосы выбились из-под берета.
— Так и знала! — воскликнула она. — Опять бражничаете! Опять накурили!
— А «здравствуйте» где? — спросил Порошин. — На улице забыла?
— Ничего не забыла. — Она ткнулась губами в висок полковника. — Вот. А теперь скажите, кто меня обманул, кто на аэродром свозить обещал?
— И свезу.
— Когда?
— До нового года.
— Надежно?
— Слово, — смеялся тот, не сводя глаз с тонконогой девчонки.
А Степан Степанович отметил про себя, каким ласковым стал вдруг его взгляд.
— Что вы едите? — спросила Неля. — Ты почему, папа, грибы не достал?
— Ты же не велела трогать.
— Не велела, пока дяди Проши нет. Жадничаешь?
— Попался, Степаныч, — погрозил пальцем Порошин, притянул Нелю к себе, заправил под берет волосы. — На глазах ты растешь, коза… Куда бежишь-то опять? Посидела бы с нами.
— Некогда. Чертить надо. Поставила на стол грибы и ушла.
— Верста коломенская, — вздохнул Ермаков.
— Хорошая девка! Отдал бы ты мне в дочери ее, Степаныч. Скучно мне одному.
— Она тебе в жены годится…
— Ну, стар я. Как дочку люблю ее, уж ты не ревнуй. Помню, на горшок ее когда-то сажал, а теперь поди ж ты!
Выпив, помолчали. Степан Степанович открыл форточку, шлепая домашними туфлями, вернулся к столу.
— Ну, чем занимаешься, генштабист?
— Прикурить дай. — Порошин потянулся через стол. — Немецкое вторжение во Францию анализируем. Ищем, что противопоставить машинам и нахальству. Техники у нас еще маловато, да и танки в основном с противопульным бронированием. Но главное — люди. Сам знаешь: в частях такая нехватка водителей, что трактористов приходится сразу на танк сажать…
— Раньше надо было браться за это.
— До всего руки не доходят.
— Иной раз руки, иной раз и головы. Комдив Дьяконский когда еще колья ломал, доказывал, что крупные механизированные соединения позарез нужны. На этом деле он, может быть, и шею себе свернул… И теперь спешим. У немцев армия танками с противоснарядным бронированием оснащена, а у нас еще опытные экземпляры испытываются.
— Дьяконского я знал, Степаныч. Голова у него действительно хорошо работала.
— По его делу, Прохор, с тобой посоветоваться хочу. Ты служил с комдивом?
— Довелось немного.
— Понимаешь, Прохор, — смущенно улыбнулся Степан Степанович. — Тут ко мне из провинции двоюродный племянник приехал, письмо привез. У Дьяконского сын вырос, мечтает стать командиром. Дьяконская просит меня с сослуживцами мужа поговорить, помочь парню.
По тому, как посуровело лицо Порошина и плотно сомкнулись челюсти, Ермаков понял, что Прохор этим делом заниматься не станет.
— Где сейчас парень?
— Взяли в армию.
— Ты, Степаныч, службу рядовым начинал. И я к тебе на батарею тоже рядовым пришел. А теперь вот оба полковники… И вообще, какой это, к дьяволу, командир, ежели он горячей каши солдатской до слез не хлебнул!
— У нас другое положение было.
— А я тебе скажу так: если этот Дьяконский парень стоящий — он своего добьется. А если слизняк, тряпка, то и толковать о нем нечего. И тебе благотворительностью заниматься не советую. Ты его знаешь? Нет. И я не знаю, чем он дышит. Там, на месте, люди посмотрят, подумают, на что он годен.
— Ладно, пусть служит, — тихо сказал Ермаков.
Помолчав, спросил:
— Ты куда едешь теперь?
— В Свердловск. Заводик есть один, и дел там сейчас куча.
— Когда отправляешься?
— Завтра. Билет в кармане.
Надев шинель и туго стянув ее ремнем, Прохор Севостьянович вышел в гостиную проститься с Нелей.
— Значит, до нового года на аэродром! — напомнила она, подавая руку.
— Как только вернусь… Да что ты мне локоть тычешь, — грубовато пошутил Порошин. — Большая стала? Замуж выйдешь, все равно за руку прощаться не буду.
— А как же?
— Вот так. — Порошин поцеловал ее в щеку.
— Очень уж не командирское прощанье, — засмеялась она.
Прохор Севостьянович медлил, долго надевал перчатки. Потом, улыбнувшись виновато, спросил Нелю:
— Ты ведь не учишься завтра? Проводила бы на вокзал старика.
— Ну?! — удивилась она. — Зачем это?
— Что-то, знаешь, грустно мне теперь уезжать в одиночку. Всех провожают, а меня нет… Ты мне рукой помашешь… Ну, как?
— Хорошо, — сказала она, серьезно глядя ему в лицо. — Хорошо, я провожу.
* * *
Победа во Франции принесла Гейнцу Гудериану звание генерал-полковника и укрепила его авторитет. Теория молниеносной войны, которую генерал разработал и применил на практике, снова полностью оправдала себя.
Осенние дни 1940 года Гудериан провел дома, отдыхая после трудного лета. Он был доволен, что его отозвали на родину. В Германии, казалось, даже воздух был другой, благоприятно действовал на нервную систему. После разрушенных французских городов Гудериана радовала чистота на улицах, ровные газоны с подстриженными кустами. Генерал считал, что готическая архитектура немецких городов, с ее прямыми линиями и правильными пропорциями, благотворно отражается на образе мышления людей, приучает их к строгости, дисциплинирует, помогает рассуждать логично и просто.
В октябре Гейнц отметил двадцать седьмую годовщину помолвки со своей Маргаритой, верной и нежной подругой. Ой все эти годы прожил в полном согласии с женой… Они не ссорились, не изменяли друг другу. Маргарита была достаточно хороша как женщина — Гейнцу не приходилось заглядываться на других.
Жена вырастила ему двух сыновей — прекрасных солдат. Теперь, когда кончились боевые действия во Франции, Гудериан был спокоен за них.