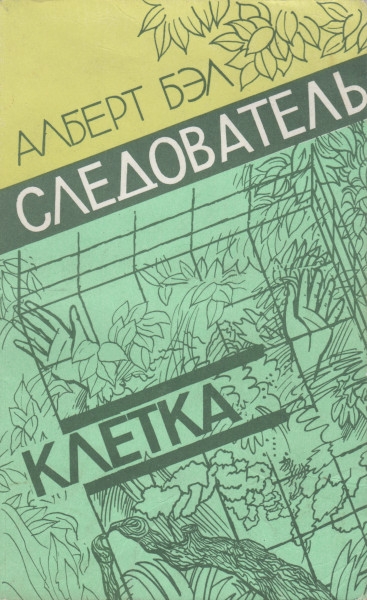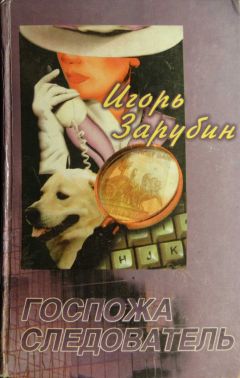позировать, и я спросил:
— Ну как?
— Ничего не вышло, — с досадой ответил Гулцевиц.
— Что говорят стрелки?
— Стрелки говорят, общество будет.
— А товарищ говорит, не будет?
— Он говорит, не будет.
— И последнее слово за ним?
— Не думаю, чтоб последнее слово было за ним.
Гулцевиц видел Ленина, слышал Ленина, охранял Ленина, и рассуждать о том, как в тех или иных обстоятельствах поступил бы Ильич, было излюбленным занятием отставного прокурора.
— Владимир Ильич был человеком гениальным, он думал сам и других заставлял думать. Если б он увидел, до чего беспомощны наши философы-теоретики, как бессвязно и робко, главное — робко, делаются выводы, Владимир Ильич бы им сказал: «Не будьте детьми, побольше мыслей, побольше своих мыслей, больше самостоятельности».
— Откуда ты знаешь, что сказал бы Ленин?
— Знаю! — весомо ответил Гулцевиц. — Прошло столько времени, почти полстолетья, мы ушли далеко вперед, кибернетика, ученье о наследственности, освоение космоса, квантовая механика, а в наши дни находятся горе-философы, похожие на строителя, разбирающего фундамент дома, чтоб из выломанных кирпичей закончить кладку стены. Неужто нам не хватает кирпичей!
— Ты хочешь сказать — мозгов?
— Кирпичей, мозгов! Так или иначе, а все кирпичи будут красными, тут у нас всесоюзный стандарт. А ломать фундамент незачем. И теоретики, не понимающие этого, попросту дураки.
— С чего ты взял, что они дураки?
— Вечно спорят.
— Разве спорят только дураки?
— Нет. Умные тоже спорят, но те после спора делают определенные выводы. Дураки же всегда начинают спор с того самого места, что в прошлый раз, пытаясь доказать, что белое есть черное. Топчутся на месте, друг другу нервы портят!
Я был плохим собеседником, я чаще задавал вопросы, чем сам рассуждал. Я работал, я старался схватить, запечатлеть одно особенно полюбившееся мне выражение лица. Иногда Гулцевиц приносил с собой экономические бюллетени и, сидя в кресле, листал их, называя отдельные цифры, и тут же сходу комментируя — что было намечено, что сделано. Одна статья, помню, его ужасно рассердила.
— Этот человек пишет так, будто коммунизм уже построен. Демагогия! Не хочу тебе зачитывать эту галиматью. Об экономике капитализма автор рассуждает примерно так: мой сосед хром, потому что не ходит ко мне в гости. А сам перед тем же капитализмом готов раздеться до исподнего, доказывая, что белье у нас чистое.
Гулцевиц долго ворчал, раззадоренный и возмущенный.
— Надо съездить в город, я тут написал одну статейку, — проговорил он и опять замолчал, заглядевшись в окно. Потом сказал: — Ни один противник не сможет причинить столько зла идее коммунизма, сколько зла причиняет плохой коммунист. Но что такое плохой коммунист? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Можно ведь сказать: Гулцевиц плохой коммунист, сидел бы и помалкивал, а то ворчит, ко всему придирается! Старый брюзга! Но у Гулцевица многое вот здесь наболело. Потому-то Гулцевиц ворчит. Пока не поздно, мы должны расстаться с иллюзиями. Почему я должен ворчать? Почему? Жил бы себе, в ус не дул. Есть люди, которые свою биографию используют, как лисица хвост. А мне моя биография, как крокодил, вцепилась в ногу!
Когда портрет был закончен, мы распили четвертинку, и Гулцевиц долго разглядывал своего цементного двойника.
— Ты меня приукрасил! Когда гляжу в зеркало, я вижу там совсем другое. Но теперь я, пожалуй, и сам начну себе нравиться.
— Значит, все в порядке, — ответил я.
Я открыл дверь, впустил старика.
— Какой промозглый противный туман, — сказал он, выбравшись из своего драпового пальто и сжимая мою руку своей короткой, толстой ладонью.
— Прямо как на море, — отозвался я.
— Ну, нет, — возразил он, — на море туман густой, а здесь он просвечивает, будто изношенная юбка.
Сказав это, он засипел, закашлял. Его и без того морщинистое лицо еще больше сморщилось. Грудь, словно кузнечные мехи, исторгала хрипящие звуки.
— Прикончит-таки меня астма, — произнес он, отдышавшись.
— Садитесь с нами чай пить, — пригласила Ева.
— Спасибо, — сказал он, — прошу извинить, что спозаранку. Увижу огонек и лечу на него, как летучая мышь. Хотел зайти вчера вечером, да у вас были гости, постеснялся. А у меня вчера было что-то вроде праздника. В одиночестве, так сказать, спрыснул. Старику Гулцевицу исполнилось семьдесят четыре года! — произнес он торжественно, затем извлек из кармана четвертинку водки и водрузил на стол.
— Так вот оно что! — воскликнул я. По правде сказать, меня разбирала досада. Не то чтобы очень, самую малость, на самого себя. Какой же я растяпа — не узнать, когда день рождения старика. — Так вот оно что! И старик Гулцевии ни словом не обмолвился другу. Вон какой он жадный, вон как боится, что кто-нибудь нагрянет к нему в гости и поможет распить бутылку вина!
Гулцевин улыбался.
— Ну, ну! Полегче на поворотах! Отпразднуем, когда стукнет семьдесят пять! А водку я приберег. Вчера пил минеральную воду.
— Отлично! — сказал я. У меня есть коньяк и вино. Так что сегодня вряд ли у нас дело дойдет до работы.
— Над чем сейчас трудимся?
— Грандиозный замысел! — ответил я. — Как раз сегодня собирался взяться за глину. На бумаге все готово, надо сделать несколько макетов. Но больше пока ничего не скажу. Посмотрим, что выйдет.
— Ремесло есть ремесло, секрет есть секрет. Никто от тебя и не требует, чтобы ты разглашал свои секреты. А коньяк с вином я не пью. Ни то, ни другое. Опорожним вот эту четвертинку, и ты сможешь приняться за глину. Старик Гулцевиц мешать тебе не станет. А сейчас подай-ка ему рюмки.
— Мне пора, — сказала Ева.
Она надела пальто, натянула сапожки, я тоже надел ботинки, накинул на плечи пальто.
— Куда это скульптор собрался? — спросил Гулцевиц. Он был в приподнятом настроении.
— Проведать почтовый ящик. Сейчас вернусь. Заодно исполню супружеский долг, провожу жену до калитки.
— Завяжи шнурки, — сказала Ева.
В самом деле, я становился рассеянным. Нагнулся,