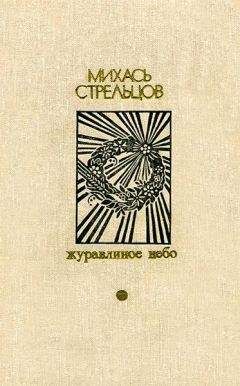И дальше уже нетрудно будет представить продолжение. Представить справные сани, ну те, и фасон и размер которых человек сознательно и с расчетом приспосабливал к своим возможностям и к своей натуре, чтобы по случаю можно было и добрую вязанку дров по первой пороше привезти из лесу, чтобы и малец мог сладить с ними на ледяной горке, чтобы и дедуню немощного можно было притарабанить по морозцу домой из соседской баньки. Вот и опрокинут набок те самые сани, и взгромоздят на них вепря, и поволокут по реденьким лоскутам раннего снега или по бугристой осенней земле куда-нибудь за пуню в ложок, в затишье ольшаника, и сорока тотчас усмотрит какой-то непорядок в своей округе — застрекочет, зашастает по ольшанику да по заборам.
Вот и все. Вот что, кроме всего прочего, должно было ощущаться, воскресать в том рассказе.
А сам замысел мыслился так: где-то, ну, скажем, в каком-то городе, в большом мире, среди людей живет сын, возможно, женатый, а может, и холостой. В детстве, в деревенском своем детстве, это был очень впечатлительный мальчик — худенький, бледный, широкоротый, порывистый и одновременно застенчивый, упрямый и в то же время не умеющий сдерживать слезы. Можно сказать, что душа его вбирала в себя многое, и можно сказать, что она была наделена способностью желать добра и понимать добро, понимать людей, и это было бы не то хищное, самоуверенное понимание, сиюминутный инстинкт выгоды, а другое, печальное и чуточку безысходное, без выгоды для себя: оно и скверного человека заставляло жалеть так же, как хорошего, хотя бы потому, что он скверный… Но это потом, в отступлениях. Начинать же нужно было бы с той ранней юности, когда человек весь, как весенняя почка: вот только что взорвала она тугую свою оболочку — о сладостный миг освобождения, опасная ласка солнца в предчувствии далеких дождей!.. Придет и гроза, и судорожно разорвет небо молния — не раз и не два, — и снова сверкнет солнце, и теплый дым опадет над орешиной, и не скажет молния, для какой завязи губителен был ее холодный зеленый луч… Но вот — молодость, и герой наш «и жить торопится, и чувствовать спешит». «Прощайте же, родные пенаты и родная хата, — думает он, — и ты, мать, не гляди так тревожно вслед». И голову еще не жарко припекает утреннее солнце, и в кринице, что укромно живет в тени родных лип, еще так много чистой воды.
Рассказать нужно было о юноше, который безрассудно и отважно ринулся в жизнь и не обкрадывал себя, искренне беря у людей и так же искренне отдавая им свое. Да и что тут было таить или жалеть! Ему казалось, что не может быть на свете человека, который, узнав, не полюбил бы его — ну хотя бы за эту его жажду сочувствия и ласки, не для себя только — для всех!.. Лишь иногда в шумном разгаре его любви к людям и согласия с ними вдруг становился задумчивым его взгляд, и казалось тогда, что тишина, высокая и сторожкая, вырастала за ним, и ощущение было такое, будто кто-то стоит за его спиной. И грянул срок, и разрушилась за спиной тишина, и беда постучалась в дверь, и познал он то, что хоть однажды в жизни познает каждый человек, — и разочарование, и отчаяние, и пугливо-виноватые взгляды друзей, и непрочную ласку женского сердца.
И вот сидел он однажды у доброго знакомого в его квартире за накрытым на скорую руку, без женского участия, столом. Разговаривали, молчали, выпивали рюмку и молчали снова. Хозяин, лысоватый, долговязый, тертый жизнью, неглупый человек, никак не мог прикурить сигарету — ломались одна за другой спички. Наконец попалась хорошая спичка, он прикурил и неожиданно с какой-то непонятной горечью усмехнулся сам себе, а потом сказал:
— Знаешь, был я у матери… Зима. Скука. Вечером старуха поставит чугунок с бульбой на камелек… Сидим с нею, глядим на огонь, беседуем или молчим, вот как сейчас мы с тобой… И хорошо как-то, и то беззаботно на душе, то тревожно. Закурю папиросу, а она все гаснет и гаснет. И снова я спичкой чирк да чирк. А мать этак тихонько говорит мне: «Разве ж можно так портить спички, сынок… Прикурил бы от уголька, а?» И смотрит на меня тем жалеюще мудрым взглядом, какой бывает только у матерей, который видит в тебе то, о чем ты и сам позабыл или бессознательно спрятал. И, знаешь, содрогнулся я… Не то чтобы стыдно мне стало перед ней, ведь не спички же она пожалела, а показалось мне, браток… — Он легко, улыбчиво глянул на собеседника и, словно испугавшись этой своей растроганности, засмеялся: — Что скажешь, а?.. Эх, думаю, если б ты только знала, сколько мы, добры молодцы, рублевых спичек по ресторанам да пивным за один вечер расшвыриваем!..
И посмеялись, и помолчали, и взяли еще по рюмке.
Потом встали они из-за стола, и хозяин хотел проводить гостя, но тот отказался извинительно и тихо, и хозяин понял, что, видно, не нужно провожать, — так славно посидели они и помолчали, а в чем пришли к согласию, каждый догадается сам.
А затем гость наш распрощался и не спеша вышел на улицу. Вечерело, солнце низко стояло над городом и лениво, холодно било в окна, в жестяные крыши домов спокойно-багряным, равнодушным светом. Трамвай звенел где-то, и стоял запах остывающего, нагретого за день асфальта, и сильней, чем асфальтом, пахло кирпичной пылью и краской. Пуста была улица, он шел, а долговязая тень ложилась на дорогу и медленно ползла, словно подталкивая себя самое, и вдруг рядом, вроде бы за деревянным заборчиком, в палисаднике коротко и жалобно пискнул птенец. Это было как знамение какое-то, и он остановился и глянул туда. Холодный багрец заливал куст сирени, порыв сквозящего ветра колыхнул листву, и тени от нее затрепетали на желтой стене, и снова тихонько и жалобно пискнул птенец. Тогда он присмотрелся и увидел его. Он видел его совсем близко, этого грустно взъерошенного серого птенца, бесконечно, непостижимо одинокого в этой знакомой ему и, видно, не впервые облюбованной тени предвечернего куста. На стене, на листве, на огромных просторах города умирало солнце, и что чувствовал, кому и на что жаловался он, этот живой маленький комочек, измученный за день какой-то своей заботой, то ли понятной, то ли вовсе непонятной ему?.. Что это было: страх, напряженное ожидание непосильного озарения или чутко, всем существом внезапно осознанная обособленность от всего и разлад со всем? И не так ли тревожит, гнетет непонятным каким-то смыслом и самого человека печальная полоска прочерченной на западе вечерней зари?
Так подумалось ему, и он сжался от другой, нежданной острой мысли, которая пришла вместе с этой, но которая, видно, уже жила в нем, когда он сидел в гостях и слушал славного своего приятеля, и слышал в себе его слова, и себя слушал: как они, эти слова, отзываются в нем. Эта мысль была о матери, она так отчетливо вошла в него, что совсем не случайным, а единственно значительным и важным предстало перед ним то мгновение, когда тени от листвы затрепетали на стене и неожиданно пискнул за забором птенец. В печальном, странно замедленном раздумье шел он домой, и шла мысль о матери, вернее память о какой-то вине перед ней, воспоминание о растраченной понапрасну силе его любви, которая, может статься, никого не согрела. Струилась криница под шатром родных лип, и вглядывалась, вглядывалась из-под руки вдаль мать…
С того дня беспокойство и тревога поселились в нем.
Однажды ему приснился сон. Сначала это был добрый сон, это была власть сумерек на границе света, когда все обозначала и проясняла собою не четкая линия — обозначал расплывчатый контур, неуловимо зримый, как образ птицы, которая только что перелетела перед тобой дорогу. Высоким полем, березовым шляхом он ехал в этом сне на велосипеде, облачно тихой и теплой угадывалась впереди даль, и гудели в березах хрущи. И вся распахивалась навстречу неведомому душа, и так было хорошо!.. Куда же, куда, зачем он ехал? Но таким знакомым, хотя и незнакомым было все вокруг, так ласкало глаза умиротворенное небо, что невозможно было не думать: все это уже было с ним когда-то… «Ага, так ведь это же я домой еду, — неожиданно весело, радостно догадался он, — вон там кончится дорога и покажется деревня». Но дорога все не кончалась, все убегала и убегала вдаль, и то знакомое, все то мучительно знакомое, чем светился, жил и звал к себе окоем, никак не могло определиться ни догадкой, ни смыслом. Оглянуться захотелось ему, он уже и намерился было, но не смог. И тогда порыв ветра упруго ударил ему в спину, ударил и сразу обессилел, и за спиной и вокруг зашелестела, зашуршала, осыпаясь долу, возникшая неведомо откуда листва, каленые, обожженные сивером листья. Стало тихо. Холод и пустоту чувствовал он за собой. Показалось на миг, что он закрыл глаза, ощущая только одно — как изменялось, как все непостижимо менялось вокруг него, а может, и в нем; страх пронзил его сердце. И тогда он увидел… О, тогда он увидел все необыкновенно ясно — в тот краткий миг, когда кто-то, до поры притаившийся в нем, одним толчком боли распахнул ему глаза и грудь! И тогда он увидел стены, которые сразу узнал: пропахшие паутиной, не тронутые фуганком стены, и топчан в углу, и груду старой одежды на нем, и старое корыто поверх этой груды, и скамью у двери, и ведра на ней, и на полу корзины с бульбой, и чугуны, и бадью с запаркой, и узкое, в одно бревнышко прорезанное оконце в стене, и какую-то банку, и единственное замызганное (не теплое ли еще?) куриное яйцо… О, почему, почему так знакомо все вокруг, и почему стоит у скамьи мать, и зачем чугуны у ее ног, зачем она повернула голову к нему — о, какой темный, невидящий, тяжелый, словно плеск воды в ведре, у нее взгляд! Он хотел шагнуть к ней, но она, отстраняясь, повела рукой, и тогда, словно по мановению этой руки, распахнулись стены, и тревожно, глухо зашуршала, озарилась при свете фонаря солома. И это уже было в пуне. Кто-то стоял на коленях спиной к нему, и что-то хрипело, билось на соломе, заслоненное этой спиной, и тускло светилась разбросанная кругом солома, и скреблись на насесте куры… И чугуны стояли в сенях, и бадья с запаркой, и лукошки с бульбой!..