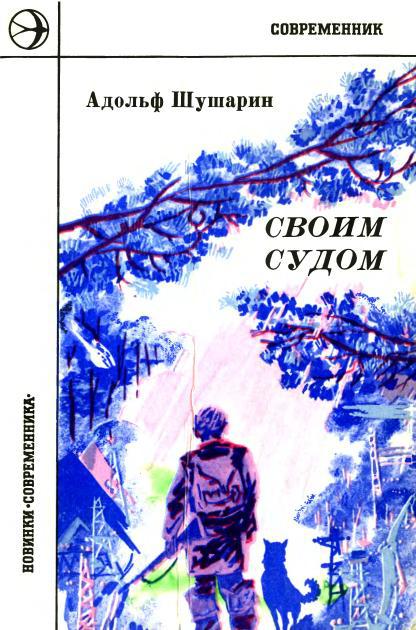class="p1">Малев встал и посмотрел на карасей в обласке, хлопающих жабрами, на свои тяжелые сапоги, на брюки, заскорузлые от рыбьей слизи, подвигал израненными пальцами рук…
В пойме над озерами тянул длинный косяк гусей. Слышно было, как они переговариваются, довольные местом и погодой. Сделав круг, вожак повел стаю к орлиному гнезду, четко синеющему на краю гривы.
Малев растерянно оглянулся, точно не было уже у него ни неба с птичьими стаями, ни озер, ни орлиного гнезда, ни собаки. И сердце испуганно ворохнулось в груди, а по затылку прошел холод. Малев качнулся и закрыл глаза.
Загря взглянул на хозяина, и шерсть на его загривке поднялась дыбом. Он по-звериному зарычал на пароход, потом завыл, тоскливо и безнадежно. Рыбак опомнился, открыл глаза и хрипло захохотал.
Белый пароход уходил. Гуси сели. Малев слышал их веселое гоготанье и ясно представлял, как они купаются, забрасывая шеями воду на широкие спины, и трясут крыльями, чтобы вода стекла. А над поймой уже идет другая стая, высматривая место для отдыха. Теперь они будут идти очень долго, пока не кончится перелет.
Пароход ушел. Загря все еще урчал, сердито и недовольно.
— Вот так, брат, — усмехнулся Малев, перекинул через плечо веревку и потащил об-ласок к воде. Надо было пересадить карасей в садок и двигаться на второй заход — к вечеру подойдет паузок, заберет рыбу.
С первого июня у художника областного издательства М. Окунева начался отпуск. Он проснулся в этот день рано от ощущения какой-то невосполнимой потери, поежился и оглядел комнату — подсознательно отыскивая причину странного чувства.
Все оказалось на месте. Длинный, узкий письменный стол, как всегда, был завален эскизами и вариантами обложек, начатыми и брошенными заставками; на полу грудами лежали случайные книги, а под креслом валялась женская сорочка банального цвета, обшитая по подолу блеклыми капроновыми кружевами. Окунев иронически хмыкнул, встал с кровати, осторожно, двумя пальцами извлек сорочку, недоуменно подержал ее перед глазами и бросил в кресло.
— Что делается, что делается, господи! — бормотал он ханжеским голоском, натягивая штаны. — Придумать невозможно!..
Ключи от холостяцкой квартиры Окунева имелись у двух-трех его друзей, он перебрал мысленно всех их и повеселел, представив, как чопорно и дотошно поведет следствие…
Одевшись, художник еще некоторое время рассматривал собственную комнату, удивляясь хаосу, царившему в ней, потом отправился в ванную. Там он налил в ведро горячей воды, попробовал ее пальцем, добавил холодной и тщательно закрутил кран. Нашлась и тряпка, оставленная, видно, уборщицей, навещавшей квартиру перед большими праздниками. Окунев утопил тряпку в ведро и пошел с ним в комнату. Делал он все это неторопливо: спешить было некуда — отпуск…
Около часа художник добросовестно трудился в квартире, с наслаждением отправляя в черную пасть мусоропровода бумажный хлам и пустые бутылки. Бутылки он сбрасывал по одной, слушая, как они падают сквозь этажи, царапая стенки трубы, и разбиваются вдребезги где-то в подвале.
К восьми все было кончено. Не зная, чем заняться, Окунев сел на кровать, хмуро оглядел посветлевшую комнату и прилег, надеясь заснуть.
Через открытую балконную дверь врывались шумы утреннего города: шарканье ног по асфальту, гул автомобилей и трамваев. На деревьях под самым балконом бешено верещали радостные воробьи и еще какие-то птицы. Со сном не получалось, хотелось встать и посмотреть в окно.
Окунев недоумевал, потому что еще вчера единственным его желанием было желание — отоспаться вволю: весь год художник хронически недосыпал. «И вот — радуйтесь, — думал он, прислушиваясь к себе со злостью и любопытством, — поднялся ни свет ни заря…» Странное чувство, разбудившее его утром, вернулось, неприятно сжимая сердце.
— Свихнуться можно! — сказал вслух Окунев и встал. Он вспомнил, что не получал еще за отпуск деньги, и решил сходить в издательство. Кассирша утрами обычно уходила в банк, но он все равно пошел, рассудив, что так все-таки лучше…
В лифте издательства Окунев по привычке ткнул кнопку седьмого этажа и только очутившись около комнаты, где работали художники, сообразил, что сделал не то: бухгалтерия была тремя этажами ниже. Минуту он колебался — заходить или нет, потом махнул рукой и пошел, волоча ноги, вниз.
В бухгалтерии художнику неожиданно повезло. Кассирша уже вернулась из банка и деньги ему выдала без промедления. Окунев спустился в вестибюль и долго стоял в раздумье, ощущая тупую тяжесть в затылке, решал, что делать: он все еще не придумал, где провести отпуск.
Подошла Клара, корректорша с четвертого этажа, яркая по-южному девица, попросила на обед рубль.
— Помираю, Мишка! — весело сказала она. — И помру, коли не дашь…
— Ой ли? — усмехнулся Окунев, подавая деньги.
Клара иногда забегала в мастерскую художников, Окунев вспомнил — она как-то жаловалась ему, что забирают в армию мужа, хотел спросить, как обернулось дело, но передумал: говорить не хотелось, ничего не хотелось.
— Ты плохо выглядишь, Миша. Нездоровится? — забеспокоилась девушка.
Окунев улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он заметил, как опустили письмо в ящик, висящий у входа, и подумал, что стоит сходить на почту.
Девушка уехала, помахав из лифта рукой.
На площади летала горькая пыль, пахло разогретым гудроном. Окунев расстегнул рубашку и закурил теплую сигарету. «Опять жарит», — тоскливо подумал он, хотя и к холоду, и к жаре относился в общем-то равнодушно.
Прохожие изнывали от зноя, держась затененных мест, а Окунев прямо по солнцепеку пересек площадь, прошел мимо чугунных ворот сквера, автобусной остановки и поднялся по длинным гранитным ступеням к стеклянным дверям почтамта. В окне «до востребования» женщина с мокрым стертым лицом равнодушно заглянула в его паспорт и достала из длинного деревянного ящика тощую стопку писем. Она небрежно перебрала их, оставляя на конвертах темные влажные следы. «Не читает», — догадался художник, но скандалить не стал: он знал, что писем ему нет.
— Нет, — сказала женщина. — Пока нет…
Окунев кивнул.
— Могли бы и написать, — сказал он обиженно.
Женщина вяло улыбнулась. В зале было душно и влажно: уборщицы протирали «лентяйками» затоптанный бетонный пол. Около них стояли цинковые бачки с теплой грязной водой. Старухи макали в бачки привязанные к палкам тряпки и возили мокрые тряпки по бетону.
Обычно ему писали женщины. Он легко сходился с ними во время командировок и отпусков, никогда, впрочем, ничего не обещая. Им это нравилось почему-то больше всего, они долго еще слали ему письма. Окунев их получал и внимательно прочитывал, не веря ни единому слову, а отвечал редко и равнодушно. Постепенно страсти стихали, письма шли реже, пока не случалось очередное знакомство…
На автобусной остановке толпились пассажиры. Окунев знал, что маршрут ведет к озеру, но решительно свернул в пропыленный сквер: его