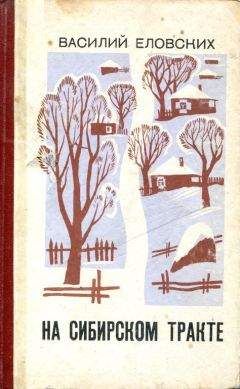Я зашел в «морозильник». По рябому лицу начальника цеха будто тень прошла, поджал толстые, выпяченные губы.
— Не надо бы нам о Тараканове так сильно шуметь.
— О каком шуме вы говорите?
— Доску вот выставили...
— А!.. Рекорд есть рекорд, он должен быть отмечен.
— Шестеренки-то полетели.
— Ну!..
— Ремонт... Простой станка.
— На ремонт времени немного уйдет. И нельзя этот вопрос рассматривать так однобоко.
Мои слова, кажется, даже вид мой раздражали начальника цеха. А когда Шахов сердился, он начинал говорить каким-то другим языком — сложным, очень грамотным, точно лекцию читал. Эту особенность за ним замечали все. И уже наловчились: если начальник цеха поминает «лешака», говорит о «тянучке», «хреновине» или какие-то другие простецкие слова употребляет, рабочий стоит спокойно — доволен, а как услышит деликатные книжные фразы, начинает переминаться с ноги на ногу, вздыхать, глаза — книзу и спешит смотаться.
— Токарь Тараканов ломает старые технические нормы, он новатор. Он лучший стахановец цеха.
— Он не только нормы, но и станок сломал.
Я ловил себя на том, что стараюсь говорить спокойно, деликатно.
— Шестеренки. Не его вина, что станки, поставляемые нам, столь маломощны.
— Об этом надо сообщить, куда следует.
— Сообщено.
Закурил и, кажется, успокоился.
— Не понимаю, почему конструкторов, создавших эти станки, не обвиняют во вредительстве.
— А вам кажется — это вредительство?
— Уверен, что нет. У нас чуть что — вредительство. Всех недоучек и бездарей готовы отнести к числу вредителей.
Сказано смело. Он вообще со мной подозрительно откровенен, хотя мы часто с ним на ножах. Чудно!
— Как работать на таком станке?
— Тараканов не новичок. Не мог не ожидать...
Опять уставился глазищами: прицеливается — вот-вот выстрелит.
— Где грань, возле которой токарь должен остановиться? Кем и как она определена? По центровому станку не поймешь, когда он с перегрузкой. Я этой перегрузки не чувствую, не чувствует и Тараканов.
— Все же надо бы как-то осторожнее.
— А кто говорит, что не надо?
Помолчал и добавил:
— Чувства, все чувства... А производственный план будет Пушкин выполнять.
Значит, не забыл «бесчувственного».
Не очень ладилось у меня с Шаховым; он тоже как-то напрягается, разговаривая со мной, больше, чем других, сверлит бешеным взглядом. Не знаю почему, но я чувствовал, что серьезных столкновений с ним не избежать. Казалось мне: Шахов вот-вот налетит на неприятность, вот-вот с ним случится беда. Я не хотел этой беды. Я не хотел, чтобы Шахова сняли с работы. Правда, когда-то я думал: хочу. Потом стал размышлять: хочу ли? И сказал себе твердо: нет! Нас, заводских, с детства приучали уважать работяг. И почти с пеленок приучали к труду.
Шел с завода и вспоминал.
...Мне лет восемь. Гудит заводской гудок, очень низкий, как бы усталый, с грустинкой. Протяжный. Слышно его за много и много верст от поселка.
Конец дневной смены. Скоро придет отец. Я торопливо мету во дворе. Метла большая — с меня — и густая. Отец сам их делает из березовых веток.
Вот и он. От одежды пахнет заводом. Говорит спокойно:
— Чё ж ты, ядрена-палка, метешь как? Сору оставил сколько.
Берет метелку. И в самом деле, сколько я сору оставил. Из каждой ямочки, щелки выбирает сор этот.
— И на улице не подмел. Барин!
В его представлении «барин» то же, что «лодырь».
И еще есть в его лексиконе неласковое слово — «фон-барон». «Разлегся, как фон-барон». «Все ему не глянется, фон-барону».
— Лень-то раньше нас с тобой родилась, а?
Иногда, придя с завода, спрашивал у матери шутливо:
— А где барин наш?
Это в тех случаях, когда я в чем-либо проявил леность или нерасторопность.
Заводской мужик должен все уметь: варить сталь, колоть дрова, строгать доски, косить, подшивать валенки, удить, собирать грибы. И уметь хорошо. У интеллигентов — там другое. «А ты человек простой и, значит, у тебя ничё из рук не должно вываливаться».
Смотрю, как отец собирает грибы. Ровная земля, ни бугорка вроде бы, а подойдет, копнет и, смотришь, — кладет в корзину груздочек. На весь год грибов засаливает.
— Свежий, крепенький груздь, он почти всегда прячется. Разве что бугорочек еле заметный... А иногда просто чувствуешь — вот он!
Понимал, где я проявляю лень, а где незнание. Наказывал только за лень.
Разговаривая с «летунами» и лодырями, он придавал своему голосу чуть заметную не то фамильярность, не то насмешливость. Знаем, мол, вашего брата. И что у вас на уме, тоже знаем — пожили на белом свете, кое-что повидали.
За ягодами шарибайские женщины и ребятишки уходили чуть свет, часов в пять утра. Торопко шли верст десять. А потом, не разгибая спины, собирали до вечера землянику, чернику, клюкву, бруснику, костянику. Обе руки в ходу, быстро, быстро мелькают, глаза бегают — ягодные места ищут. Встанет, разогнет спину, поморщится и снова собирает ягоды. И так час за часом до вечера. Посмеиваются:
— У Степки-то вон спина совсем не сгибатса.
— Как у бабки Маланьи.
— Ну той годов-то уж сколь. Считай, под сто. Та уж отбегала свое.
— Так ведь старость-то в разные годы наступат. У кого в сто, а у кого и в десять.
Иногда ругались:
— Давайте, давайте, робятушки! Лень человека не кормит. Неудобно все ж таки, стыдно. По заводу пойдем.
Да, прийти из лесу с неполной корзиной считалось делом зазорным. Корзина, пусть она будет хоть ведер в пять, должна быть полнехонька.
Придут домой бабы вечером, вальнутся кто куда, завздыхают, заохают, — до смерти уморились.
Нигде больше, кроме Шарибайска, не видел я, чтобы такое веселое дело, как сбор ягод, превращали в столь каторжный труд.
Но это не из-за ложного стыда и не из тщеславия у них; здесь правило: все делать на совесть, только по-настоящему. Так прадеды учили дедов, деды отцов, а отцы — нас. Лодырей презирали.
Случалось, отец дубасил меня. За что? Не так сделал, не вовремя сделал... Бил не больше и не меньше, чем другие отцы своих сыновей.
Отвел на завод к мастеру.
— Вот он! Ежли чё, выдери как сидорову козу.
— Так сколько ему?
— Десять уж.
— У-у-у, совсем большой мужик!
Я возил на лошади торф.
Позднее сосед-старик сманил: «Хошь на токаря научу? Робота легкая и чистая. Через полгодика сам со станком управляться будешь я те дам как!» Отца в живых уже не было, жили мы бедно, и пошел я в механический.
Особенно тяжело было ночью. Под утро смертельно хотелось спать, веки сами собой закрывались, я забывался на секунду, вздрагивал и ошалело глядел на вертящуюся в станке деталь, на резец, из-под которого вилась бойкая стружка. Пугливо озирался: позор! Но засыпал только в первые ночные смены — ко всему человек привыкает.
Все токари казались мне, мальчишке, пожилыми, деловыми, строгими. Я старался подражать им — ходил раскачиваясь, по-стариковски хмурил брови, говорил баском, хотя хотелось и побегать, и попрыгать в цехе.
Родители-упрямцы хотят, чтобы дети непременно все по-ихнему делали.
Тестюшка мой метил за пожилого мастера отдать Катюшу. А та со мной, молодым, спелась и убежала из дому. Ругали мы тогда с ней стариков на чем свет стоит. А прошло время — сами Дуняшке желанья свои стали выказывать.
Пришла Катя с базара.
— Слышь-ка, Степ! Нашу видели сейчас. С этим... как его?.. с вольным.
Шарибайские всех приезжих называли вольными.
— Токарем у вас.
— Ну, у нас токарей!..
— Из деревенских.
— И из деревни, считай, одна треть.
— Аккуратненький такой, прилизанный.
— А! Мосягин. И что же?
— Идут, значит... Ну и ну! — Потрясла головой, не то от удовольствия, не то от огорчения.
— Под ручку?
— Не-е, так. Он пальцы сам себе поглаживает, пожимает, чё-то воркует. И радостный такой, будто сто тыщ по облигации выиграл. А наша-то, попрыгунья, стрекоза наша-то, заливается от хохота и глазки ему строит. Хоть бы шарибайский, а то не знат, чей, откудов. За ней сейчас глазоньки да глазоньки нужны.
— Не все ли равно — откуда. Надо поговорить с ней. Не тот человек...
— А может, подождем. Увидели девку с парнем и запрет накладывают.
— Ждать-то нынче опасно. Все быстрей стали делать — и работать, и любить.
Как до кого, а я всегда хотел иметь парня, а не девку — с дочками больше мороки. Теперь вот как будто ученые доказали, что пол ребенка от отца зависит. А в старину сколько зуботычин бабам перепадало, сколько матерщин слышали, родив не кормильца, а девку. Я ни слова плохого не сказал, когда Катя родила дочку, но в тот вечер три стакана водки осушил от огорчения.
Как все шарибайки, Дуняшка не велика ростом, сметливая, бойкая, языкастая. Из рук ничего не вывалится. Счетоводом на заводе.
Шарибайские девки курносые, белобрысые, а у Дуняшки нос прямой и волосы темные. Улыбка едва заметная, недоверчивая, как будто вот-вот скажет: «Ух и лживый!», а глаза смотрят преданно. Где — неизвестно, научилась девка ужимки строить, лукаво посматривать. Пока сидит за бухгалтерским столом, все тихо, солидно, на лице деловитость, строгость, а встанет и пойдет — хи-хи да ха-ха, то за шкаф зацепится, то стул опрокинет. «Сатана-девка!» — говорила Катя с довольной улыбкой.