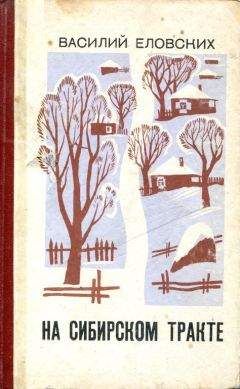Мы всегда старались приучить дочку к труду, к быстроте, к точности, ко всему тому, чем отличается настоящая шарибайка. «Баба должна быть как огонь, все уметь — и постирать, и поплясать, и за десять верст по ягоды сбегать», — говорила Дуняшка, а я вспоминаю, что примерно те же слова упорно вдалбливал ей лет десять-двенадцать назад. «Вот хозяюшка, полведра воды из колодца несет и по дороге плещет». Такое говорила Дуняшке когда-то и мать.
Отцу трудно судить, красива дочка или некрасива; с другой меркой подходишь: все дети близки и приятны. Заводские парни посматривали на нее, бормотали: «Ишь, ты, какая!»
Многих легковесных гулеванов, охочих до девок, мы с Катей отвадили. Да ведь не узыришь за каждым, уж на что за монашками строгий догляд был, а и то всякое случалось.
Когда перед обедом дочь, придерживая рукой юбку, перешагнула через порог, как через лужу, жена сразу бухнула:
— Чё у тебя, с кавалером с этим?..
Так громко спросила, что кошка, сидевшая на подоконнике, дернула головой, поглядела на кухню, кашлянула, как ребенок, и спрыгнула.
— С ка-а-а-ки-им? — запела Дуняшка.
— Не крути давай!
— Оч-чень он нужен мне! Хэ! Чинненький, навроде попа, и волосы прилизаны, как у приказчика — в кино видела такого. Хоть бы бровью повел. Не человек, а манекен. Говорит сегодня: «На любую пакость отвечу двойной пакостью». А я ему: «Значит, если вор украдет у тебя десятку, ты украдешь у него две?» — «Да, только моя десятка не в счет». Все это он так... он больше не будет. Он еще исправится.
И усмехнулась.
Зря говорят, что сердце девичье вещее...
Мосягин оказался парнем прилипчивым: каждый день появлялся на нашей улице и к нам заходил, будто так, мимоходом, но всякий раз, когда Дуняшка дома. Перевалится через порог, чинненько поздоровается, руки по швам, по-солдатски. Не было в нем, как в других парнях, простоты и легкости.
Порой казалось, что Мосягин хочет ко мне приблизиться, а если удастся, и породниться со мной. Но, опять же, обер-мастер — не велика шишка, найдутся тести повыгоднее. Я уже начал подумывать: если вдруг приглянется Дуняшке человек этот, пускай женятся, постепенно переделаем его на свой рабочий лад. Сталь и ту переливают, переделывают.
Стал Мосягин зачем-то заходить к соседу нашему Сычеву, пожилому носастому молчуну.
Раньше я хорошо знал всех жителей нашей короткой — в четыре квартала — улицы. На каждом квартале не больше десятка двух-трехоконных деревянных домов. Дома разделены дощатой перегородкой — «передняя и прихожая». Взрослых мало. А ребятишек — воз и маленькая тележка. С раннего утра и до ночи бегали они по улице, по берегу Чусовой и в ближнем лесу чумазые, босые и невозможно шумливые. Родились, женились и умирали на одном и том же месте.
Сычева знал намного хуже, чем других, хотя он жил рядом со мной. Это фигура туманная. Грамотен, закончил три класса — не так мало для царской поры, но работал сторожем в магазине. Весь век лодыря гонял, болтался, отбояривался от настоящего заводского дела: сперва дворником был у купца, потом лоточной торговлей занимался. Уехал на юг и вернулся, по всему видать, с деньгами. Поговаривали — собирается кабак открыть. Помешала война. У Колчака служил. Как и кем служил — никто не видел, не знает. А сам говорил, что унтером. Дезертировал. Конечно, тут дело такое... К Колчаку силом загоняли, забривали всех под гребенку, спасались лишь те, кто убегал из поселка. Из армии Сычев пришел тронутым; был не то, чтобы идиотом, а все же немного не в своем уме: сопит, понурив голову, молчит, молчит и вдруг вскакивает, хохочет и плетет несуразицу — ничего понять невозможно.
Но дурак-дурак, а свое домашнее хозяйство на широкую ногу поставил: корова, овцы, свиньи, гуси, куры, сад фруктовый и такой огородище, что бабы с завистью восклицали: «Вот это — да, я те дам какой!» На грядках раньше всех зеленело у Сычевых. И когда с других огородов еще навозом и прелью тянуло, у него уже попахивало овощами. И — хоп! — на базар. Сидит, продает втридорога пучочки редиски и луку. На физиономии благообразие и строгость, будто святым делом занялся человек.
Любил анекдоты, пословицы, поговорки. Нехорошим душком от его анекдотов и пословиц потягивало. Смысл их сводился к одному: в магазинах продуктов не хватает, из колхозов коровы бегут, потому что плоховато их кормят. И зубы скалил при этом, похохатывал. Я сказал: «И не стыдно? Неуж ты до революции мяса и сахара ел больше, чем теперь?» Его как ледяной водой окатили: поежился: «Да, да, конечно, соседушка. Я ж шутя».
Как-то зашел ко мне Евсей Токарев, шумливый мужик лет под сорок, наш шарибаец, работавший в райотделе НКВД. Озирается опасливо и все про Сычева: «Слыхал его анекдоты? Что он о нашей власти думает?» А я ему: «Сычев — дурак и хапуга. Говорят, у пустой головы пустая мошна. Тут наоборот. А что он думает — не знаю. Чужая душа — потемки».
Майским воскресным утром я с Дуняшкой работал в саду. Подошел Мосягин. Жадно смотрит на Дуняшку, еще более жадно — на сад.
— Смородины-то черной сколько! Эт-то такая ягода!..
— Да, для здоровья очень даже полезная, — сказала Дуняшка.
— На базаре с руками и ногами оторвут. В прошлом годе хотел я стакан ягод купить. Попрыгал, попрыгал возле торговки-то и отвалился в сторону — дорого. Черемуху я вам советовал бы срубить к лешему. Тока крышу у амбарушки портит.
— От черемухи тень славная, — запожимала плечиками Дуняшка. — Летом в тени-то куда как хорошо кваском побаловаться.
— Вишь ли, Евдокия Степанна, от черемухи — проку-то, окроме тени, никакого, можно сказать, и нету. Чё за ягода? Так... ни то ни се, ни рак ни рыба. Все одно что воробьев разводить на мясо. А ведь здеся яблоню иль даже вишню можно садить. А от них, считай, какая пользительность! Вон сосед ваш, Сычев, нынче целых десять яблонь высадил.
— Да здесь что Украина, что ли?!
— Вишь ли, Евдокия Степанна, это пред-рас-судок. Ошибка очень даже большая насчет того, будто бы фруктовые деревья в наших северных местах не возьмутся. Возьмутся! Да! На Урале уже давно садят яблони. Яблоки и вишни — это ж такая ценность.
— Ты все на цену переводишь, — сказал я недовольно.
— А все имеет свою цену. — Мосягин глядел на меня кротко, а краешки губ его насмешливо поползли книзу. — Цену, а значит, и пользу людям. Человек робит на себя. Это только в газетах пишут, что он робит на всех. На всех-то на всех, а думает прежде всего о себе.
— Не то, слушай.
— Даже любовь имеет цену? — В голосе Дуняшкином игривость.
— Насчет этакого умалчиваю. Писатель Лев Толстый сказал, что любовь подчиняет все.
— Не Толстый, а Толстой. — Дуняшка прямо-таки закатывалась от хохота. — И где он сказал?
— Ври! Культурнее — Толстый.
— Да Толстой тебе говорят, Толстой! Что ты в самом деле?
Когда он ушел, я спросил у дочки:
— Нравится тебе этот?
— И ни капельки. Невежда.
— Чего же ты с ним кокетничаешь, такая-сякая?
— А что, на всех волком глядеть?
Логика убийственная, ничего не скажешь.
— Смешной он.
Если б только смешной.
— Ты чего улыбаешься?
Мне вспомнилось... На днях парнишка — ученик токаря хотел куда-то позвонить из цеховой конторки. А как звонить, не знает, никогда не держал телефонной трубки. На него зашумели: «Эх ты, милай, а еще мужик!» — «Не знает парень, что ж такого, — сказал Мосягин. — Зачем кричать?» И начал показывать, как звонить. И какая-то противная снисходительность, что-то барски покровительственное было в его голосе.
— Душок в нем не тот. Смотри, женишок этот подсунет тебе пакость.
Сказал шутки ради, а, оказалось, угадал в точку.
В царские времена у нас тоже любили гулянья: группами человек в десять-пятнадцать, жители одной улицы и друзья, уходили в лес и на берегу Чусовой разводили костер; пельмени — самое лакомое у шарибайцев блюдо — и водка, брага. Пьют и едят весь вечер, а потом — домой. По дороге пели, плясали. Голоса у шарибайцев громкие — на одной улице поют, на десяти слышно. Плохо, когда не поют и не пляшут, плохо. Значит, выпили маловато или перессорились. Хорошо «погулявший» человек и поет и, пляшет.
Теперь стали культурные — на широкую ногу — массовки, маевки, сабантуи устраивать, с буфетами, духовым оркестром, танцами, — названия разные, а суть одна.
В тот по-весеннему парной, по-летнему теплый день позднего мая мы с Катей пошли на заводскую массовку. Имел я привычку дурную: если отдых, так надо выпить, хотя водку не любил и в пивнушках не сиживал. Многие рабочие по стародавней привычке путали отдых с выпивоном, но ни-ни! — не безобразничали; только молодые навостряли кулаки да легковесные люди, вроде Сычева.
Уже на закате, когда всю обширную поляну, где проходила массовка, искромсали синеватые грустные тени от деревьев, когда и голоса баянов стали казаться грустными и люди как-то припечалились и засобирались домой, откуда ни возьмись, Дуняшка выскакивает, злющая, взлохмаченная, платье помятое.