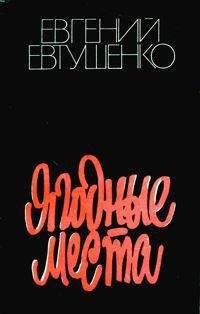Директриса подумала: «Нет, кажется, мероприятие на высоте… А все-таки жалко, что американцы не увидели наших стендов…» — и вслух произнесла:
— Приятно, что вы знаете нашу классику. Конечно, история Ваньки Жукова — это далекое прошлое нашей страны.
Дядя из госдепа записал в блокнотик: «Chekhov's short story about «Ivan Jhukov» — read next weekend».[10]
Парень с библейскими глазами вытащил из брезентового чехла шестиструнную гитару:
— А теперь я доскажу то, что не сказал, песней… — и спел антивоенную песню Боба Дилана, чем навел зеленую тоску на дядю из госдепа.
Вечером, ускользнув от взрослых глаз, русские и американские школьники встретились в молодежном кафе. Русские, скинувшись, выставили несколько бутылок шампанского. Американцы, за исключением мотоциклиста, сказали, что пьют шампанское впервые, чем повергли русских в недоумение. Селезнев презрительно поджал губы — американцы попались явно «нефирменные».
— Сереж, ты заметил, какая колоссальная курточка с молниями на этом мотоциклисте? — толкнул локтем Лачугина сын директора плавательного бассейна. — Их знаешь как в Америке называют? Ангелы ада!
— Ну и что! — не понял Сережа.
— А что, если я ему шепну насчет маленького обмена? У меня дома есть складень восемнадцатого века.
— Только посмей, сукин сын… — яростно прошептал Сережа.
Компания как-то сама по себе разделилась: Селезнев и его окружение разговаривали с «ангелом ада» о мотоциклах, яхтах, пластинках, а Лачугин и Кривцов — с остальными американцами о литературе, и рыжему лидеру пришлось записать имена Курта Воннегута, Вильяма Стайрона, Джона Апдайка, которых он, по его честному признанию, не читал.
— Не думал, что мне придется от русского узнавать об американской литературе! — хохотал рыжий лидер.
Пока на эстраде метались, раздирая струны электрогитар, битлы с Васильевского острова в польских джинсах с самодельными ярлыками «Вранглер», пришитыми к задним карманам для придания общей «фирменности», пока «фирменные» девочки и мальчики вокруг посасывали из таллинских пластмассовых соломинок теплое ввиду постоянных поломок холодильника пойло под названием «Мост через реку Квай», в кафе сквозь заслон смилостивившихся дружинников в красных повязках вошел никак не совпадающий с обстановкой старик в соломенной шляпе с широкой траурной лентой, явно стеснявшийся не принятой гардеробщиком перенабитой авоськи, оттягивающей руку.
Увидев свободное место за столиком, где сидели американцы и русские, старик робко приблизился, лавируя между извивающимися парами и задевая их ноги авоськой. Из прорвавшегося пакета сквозь авоську торчала макаронина. Свободной рукой старик неловко стащил шляпу, под которой обнаружились слипшиеся седые редкие волосы, и, робко оглядываясь, попросил:
— Я на минутку. Мне бы только попить чего-нибудь… Чайку или минеральной.
— Разве вы не видите, что здесь занято, — отчужденно сказал Селезнев, продолжая свой разговор с «ангелом ада».
— Садитесь, — пододвинул старику стул Лачугин.
— Вот спасибо, вот спасибо… — извинительно бормотал старик, засовывая авоську под стол. — Я сам нездешний… Через час поезд отходит. А я вот замотался, аж во рту пересохло, да все автоматы с газировкой, как на грех, не работают… Дай, думаю, зайду. Ребята в дверях симпатичные оказались. И вы тоже…
— Принесите чаю, — сказал Кривцов верткому, в настоящих вранглеровских джинсах официанту.
— Не держим, — попытался ускользнуть официант.
— Тогда минеральной или лимонаду, — крепко схватил его за локоть Кривцов.
— Кончилось. Могу предложить фирменные коктейли, — занервничал официант.
— Что вы, что вы, я такого не пью… — забеспокоился старик, проверяя рукой под столом, не заваливается ли авоська. — А нельзя ли просто водички из-под крана, сынок?
Пока официант, высвободив наконец свой локоть из руки Кривцова, извилисто удалился, старик спросил:
— А вы, ребята, здешние, ленинградские?
— Мы ленинградские, — ответил Лачугин.
— А мы американские, — ответил рыжий лидер.
Старик растерялся:
— А как же вы… вот так и сидите?
— Вот так и сидим, — засмеялся Лачугин.
— А вы вроде все по-русски говорите… — недоверчиво протянул старик.
— Мы в американской школе русский язык изучаем, — сказала американка.
— А мы английский, — сказал Кривцов.
— Вот ведь как… Молодцы… А я вот ни по-какому. Думал, не пригодится. Да и жизнь другая была. А вот однажды пожалел, что иностранных языков не знал, — застенчиво улыбнулся старик, наливая из графина все-таки принесенную воду.
— Это когда же? — спросил Кривцов.
— На Эльбе. Тогда я первый и последний раз американцев видел. Ни они по-русски, ни я по-английски, а вот выпили крепко… Тогда у меня еще чуб был, — и старик смущенно провел рукой по остаткам волос, надевая соломенную шляпу, а другой рукой нашаривая авоську.
— На Эльбе? — ахнул рыжий лидер, даже привстав оттого, что символ вдруг стал реальным человеком, так робко подошедшим к столику и попросившим воды.
— Ну, дай вам бог всего хорошего, — заспешил старик. — Теперь вы и поговорить можете. А мы вот тогда не могли. Ну да главное, чтоб войны больше не было.
И старик быстро пошел к двери, обломав торчащую из авоськи макаронину о кого-то из танцующих, и школьники смотрели на дверь, в которой он исчез так же внезапно, как и появился.
— Все он выдумал, — усмехнулся Селезнев. — Таких совпадений не бывает. Просто ему понравиться захотелось, впечатление произвести. Эти пенсы все большие фантазеры.
— Какие пенсы? — не понял рыжий лидер. — Пенсы — это английская мелкая монета.
— Пенсионеры, — нехотя пояснил Селезнев.
— А ты не думал, что и ты — будущий пенсионер? — не выдержал Кривцов.
— Ты совсем не похож на свою официальную речь в школе, — сказал рыжий лидер, внимательно вглядываясь в Селезнева.
— Если бы мы были похожи на наши официальные речи, каким бы скучным оказался мир, — надменно отшутился Селезнев.
— Но зачем говорить слова, если у слов совсем другие лица, чем у нас? — жестко спросил рыжий лидер.
Селезнев пожал плечами и, подчеркнуто церемонно раскланявшись, вместе с «ангелом ада» и своим окружением пошел к выходу. По пути он чертыхнулся, поскользнувшись:
— Как отвратительно хрустит эта макаронина на паркете.
— И это ваш друг? — спросил рыжий лидер.
— Просто мы из одной школы, — ответил Кривцов. — Но у него есть одно ценное качество: он не умеет скрывать своей сущности.
— А может быть, научится? — спросил рыжий лидер. — Бывает, что такие становятся даже видными деятелями и говорят о благе народа. Не надо стесняться мешать таким людям идти по чужим макаронам.
— Мне совсем не хотелось записывать их адреса, — сказал гитарист. — Они совсем не из той страны, откуда Ванька Жуков. Они из страны равнодушных. Как и наш «ангел ада». А вот жаль, что я не успел записать адрес того старика.
— Равнодушные, наверно, несчастны, потому что никого не любят, — сказала американка.
— А по-моему, не надо приписывать равнодушным несчастность, — резко сказал Кривцов. — Не надо им помогать нашей жалостью. Это с нашей точки зрения они несчастны. Со своей точки зрения — вовсе нет. У них есть свои собственные радости: вещи, деньги, власть. А начинается это все в детстве с такой игрушки, которой нет у других детей.
— Взрослые нас часто портят из самых лучших побуждений, — сказал Лачугин.
— Не надо поддаваться! — стукнул кулаком рыжий парень. — Дети — тоже люди и должны иметь свою голову на плечах.
— Всюду слышишь про преступников: жертвы воспитания, — сказал гитарист. — Что-то в этом есть оправдательное, жалеющее. А если так называемая жертва воспитания пырнет кого-нибудь ножом в темном переулке, почему в этом должны быть обязательно виноваты родители? Если я что-то сделаю плохое, почему за это должна отвечать моя мама, которая никого не зарезала в жизни, кроме кур на своей ферме под Сиатлем?
Потом пошли смотреть, как разводят мосты. Медленно запрокидываясь, мосты поднимались, покачивая переворачивающимися вниз головой фонарями. Кривцов встал на парапет и стал читать стихи, четко руля рукой, и в этот момент ему показалось, что под поднятыми мостами вместе проходят «Мэйфлауэр» и корабли Петра.
А потом гитарист вытащил свою шестиструнную и все запели песню, которую, оказывается, хорошо знали и русские, и американцы:
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome some day…[11]
«We shall overcome, we shall overcome…» — снова потихоньку напевал Сережа Лачугин, вспоминая ту ленинградскую ночь сейчас в сибирской тайге, отделенной таким огромным расстоянием от его детства. Оно, это недавнее детство, казалось далеким прошлым. «А ведь по-русски нельзя сказать от первого лица единственного числа: «Я побежу…» или «Я победю…», — подумал Сережа. — Грамматика сопротивляется. Может быть, одному вообще победить невозможно? Только всем вместе. — Он тут же горько усмехнулся. — Но все вместе никогда не могут быть… Да и не надо… Как я могу быть вместе с Игорем Селезневым или с тем дядей из госдепа? То, что мы не вместе и никогда не будем вместе, — это нормально, это борьба. Но вот Кривцова и тех американских ребят нельзя терять…»