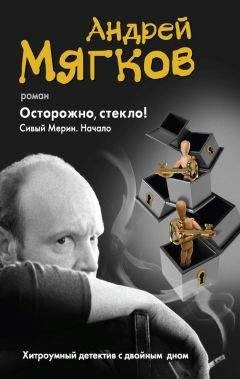— Хорошо ли?.. И тебя не забыли. Складно прописали. Орудуют…
Скоробогатов сказал:
— Я возьму эту бумажку.
— Возьми, навовсе возьми! Ну, так все! — взяв палку и надевая картуз, проговорил Ахезин.
— Куда торопишься?
— Пойду! Времени у меня с тобой лясы точить нету. До увидания!
— Ну, так спасибо! — глухо и как-то пристыженно проговорил Скоробогатов.
— Не стоит. Ахезина ты позабыл, а я Скоробогатова помню, не запамятовал!
Ранним утром Макар уехал в Подгорное.
Скоробогатов чуял надвигающуюся грозу. Это выводило его из себя. Он привык сознавать свою силу, всякое сопротивление сламывать своей волей… а теперь эта бумажка, напечатанная необычным шрифтом, настойчиво напоминала, что на прииске появились люди, которые готовят ему — Скоробогатову! — гибель.
Макар вспомнил Ефимку Сизова: «Как-то быстро он изменился!» Ефимка не походил уже на того юркого курносого парнишку, который возил с Глубокого водку для пирушек. Он возмужал, лицо удлинилось, а большие серые глаза смотрели иногда на Скоробогатова вопросительно, серьезно.
«Неужели он? — спрашивал себя Скоробогатов и, сдвигая брови, сам же отвечал: — Ничего нет удивительного, все время на книжках сидит. Согрел змею у себя на груди».
К злобе примешивался страх. Осенний рыжий вихрь бешено носился по лесу, раскачивал деревья, встряхивал кустарники, налетал на Скоробогатова тонкими холодными струйками. От ветра и от дум стало как-то холодно.
Дорожка, убегающая направо по склону в чащобу, напомнила Макару о Маевской. По этой дорожке они свернули, прячась от грозы.
Вспоминая странных людей, которые за последнее время посещали Маевскую, он понял, почему Мария Петровна арестована. Он не раз слыхал о людях, которые тайно «готовят бунт». Их сажают в тюрьмы, они выходят и снова продолжают настойчиво делать свое дело.
Макар этих людей называл «студентами». Он их не боялся. Он привык к мысли, что «студенты» занимаются политикой. Но о рабочих он думал иначе: это простые люди, приставленные к работе. И вдруг: Лопатин, Ефимка, Смолин!
«Надо в полицию заявить про эту бумажку!»
Но как-то бессознательно он повернул лошадь к особняку Маевского. Его встретила Настя. Скоробогатов удивился: Настя была затянута в богатое шерстяное платье. На ногах красовались лаковые туфли. Лицо выражало тихую грусть.
— «Ого, новая хозяйка!» подумал Макар.
Маевский с осовелыми глазами сидел за обеденным столом, на котором добродушно мурлыкал пузатый самовар.
— Ба, Макар Яковлич! Прошу! — не вставая, проговорил он.
По комнате размеренно прохаживался адвокат Столяров в сером, с иголочки, костюме. Он ерошил пушистые русые волосы, точно хотел прикрыть небольшую, в пятачок, плешинку. Лицо у него было спокойное, с русой бородой и ушедшими внутрь серыми глазами. Он приостановился, глядя на Скоробогатова, потом повернулся на каблуках и снова начал прохаживаться.
— Знакомы, Александр Васильич? — спросил Маевский, — это наш большой золотопромышленник — Скоробогатов.
— Слыхал, — Столяров протянул руку Макару.
Настя уселась за стол и принялась допивать чай, растопырив пальцы больших красных рук. Скоробогатов покосился на нее: «Приглянется же сатана, лучше ясного сокола». Обращаясь к Маевскому, он проговорил:
— Я к вам…
— Рассказывай, — подставляя стул, проговорил Маевский.
— Настенька, стакан чаю Макару Яковличу… У меня новая хозяйка — знакомы?
Скоробогатов утвердительно кивнул головой, подумав: «Только она здесь — не у шубы рукав».
Настя, краснея, подала Скоробогатову стакан крепкого чаю.
— Ты, поди, Марию Петровну ищешь? Она, брат ты мой… Фью-ю!
Маевский протяжно тихо свистнул.
— Я знаю, где она… Но тут дело такое… — Макар мялся, не зная, с чего начать. — Я… Я насчет… Тут…
— Думаешь лишние люди есть?.. Вываливай, — говори, все свои, — перебил его Маевский.
— Вот… — Макар выдернул из кармана прокламацию и подал Маевскому.
Тот, беззвучно икая, равнодушно развернул бумажку, потом, усмехнувшись пьяной улыбкой, проговорил:
— Ерунда! Пустая канитель…
Он взялся за графин, а Столяров, пробежав глазами бумажку и подавая ее Скоробогатову, сказал:
— Не беспокойтесь. Так должно быть… Борьба…
Маевский выпивал рюмку за рюмкой. Успокоенный Скоробогатов присоединился к нему, а Столяров, закинув руки назад, говорил:
— Время подходит особенное, господа… Рабочая партия стремится низвергнуть самодержавие и захватить власть в свои руки. С первым мы должны согласиться, второму противопоставить борьбу… И создать условия для развития культуры.
Макар смутно понимал Столярова.
— Какие условия? — спросил он.
— Чтобы рабочие вас не считали врагом. Уничтожение чиновничьей России общее дело — дело наше и дело рабочих. Нужно создать Россию демократическую. Тогда будет вам хорошо, и рабочий будет удовлетворен…
— Тогда за что посадили Марию Петровну? — уже возмущенно крикнул Скоробогатов.
— А тебе ее жаль? — смотря остеклянелыми глазами на Макара, спросил Маевский.
Макар, краснея, сердито произнес:
— Зря!.. Ежели так, нужно было помогать им, а не уконопачивать в тюрьму.
Настя покосилась на Макара.
— Борьба!.. — продолжал свою речь Столяров, с наслаждением смакуя каждое слово. Он ходил из угла в угол, воодушевленно жестикулировал, ерошил волосы. Скоробогатов внимательно его слушал. И вдруг, плеснув в чайный стакан водки, поднес Столярову:
— Александр Васильич, выпьем!.. Больно ты занятно говоришь… Значит, власть должна быть наша?.. Здорово!.. Ей-богу… — Я — царь?.. Давай выпьем!
Столяров попятился, отстраняя стакан.
— Я не пью, спасибо…
— Ну, выпей за компанию…
— Брось, Макар Яковлич, — крикнул Маевский. — Не в коня корм травишь, — и, стукнув кулаком по столу, запел:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…
Скоробогатов, держа стакан в руках, прислушивался к песне Маевского:
Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог.
— Господа! Я тоже революционер… Александр Васильич, ты не знал?.. Меня жена обработала… Э, брось ты эту чепуху! Ты, Макар Яковлич, не хнычь! Все это канитель, ерунда… Ты можешь быть царем. Наживи капитал такой, чтобы ты был первым, и ты царя под голик загонишь. Будешь приказывать царю все, что ты захочешь. — Столяров нервно ерошил волосы, а Маевский, пошатываясь, наливал рюмки и говорил Скоробогатову — Ты бумажки эти не читай — плюнь на них! Насчет царей никто тебе ничего не скажет, ни Александр Васильич, ни Мария Петровна. Время покажет, куда определить наших самодержавных.
Мысли Скоробогатова путались. Уезжая домой, он думал:
«Плевать я на всех хочу. Пусть попробуют бунтовать. До одного всех выгоню. Первым долгом — Сеньку Смолина, Ефимку Сизова. Наберу новых!» И вынув из кармана прокламацию, он разорвал ее.
Татьяна встретила мужа удивленным взглядом. Когда Макар подошел к ней, обнял, она судорожно вырвала свои руки так, что они хрустнули, и отошла в сторону, гордо закинув голову назад.
— Это что значит? — спросил Макар.
Татьяна промолчала.
— Я тебя спрашиваю, что это значит, Татьяна?
— Н-не люблю я пьяных.
— Не любишь? А, если ты так и мы так! Чорт с тобой, чернохвостая!
Но Макар тут же упрекнул себя за то, что выругал ее. В нем кипела страсть к Татьяне… Особенно в этот день, когда Татьяна держалась от него поодаль. Он сорвался с места, запряг лошадь и уехал на «веселую улицу» Подгорного, где подряд стояли дома терпимости. Опустошенный он возвратился домой, не показываясь жене, отоспался и ранним утром уехал на прииск.
Здесь в работе он забыл о Татьяне. Дело его расширялось. Прииск расползался все дальше и дальше, захватывая котловину речки Безыменки. Крутые берега постепенно сбрасывали густой покров пихтачей, оголялись. Перепутанные черемушники исчезли. Шире и шире разевал бурые челюсти разрез, глотая больше и больше рабочих. Утром тихая, нетронутая рамень оглашалась воем гудка, тяжелым пыхтением паровых машин и грохотом чаш, которые громко буторили в своем изрешеченном теле пески, выбрасывая крупную галю на высокие свалки. Образовывались новые, голые, без растительности увалы.
Все это радовало Скоробогатова. Он чувствовал себя обладателем огромных богатств. — «Наживи капитал такой, чтобы быть первым, и ты будешь заставлять царя делать все, что тебе нужно»… Он ходил с раннего утра до вечера в густом муравейнике людей, отыскивая слабые места в производстве. Заходил в машинную, поднимался на вышку, следил, как взмытые струей воды пески в огромной чаше проваливались в решетки. Ему казалось иной раз, что машина лениво работает, люди лениво двигаются.