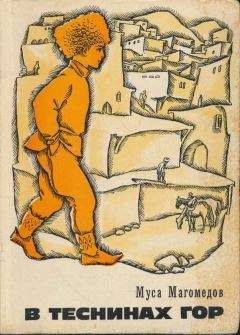Абдулатип не помнил, как уснул. Во сне он видел какой‑то хутор, и хоть он не был похож на тот, откуда он прибыл, бандиты были те же. Страшный, с налитыми кровью глазами Галбауллав привязывал его к подпорке двери. Абдулатипу хотелось кричать, но крика не получалось. Он проснулся в холодном поту, вскочил, с трудом вспомнив, где находится, и только тогда немного успокоился.
В окно виден был бледный рассвет, слышались крики ослов, мычание коров. Абдулатип вышел на веранду, осмотрелся. У стойла, привязанный, тихо стоял его конь и жевал сено. Других коней не было. Не было видно п партизан. Абдулатип забеспокоился. «Неужели все ушли? И что было вчера после того, как Наху–Гаджи зажег огонь на скале?» Абдулатип злился на себя: все проспал.
— Бабушка, куда все ушли? — спросил он у старухи, которая вышла доить корову.
— На войну, сынок, — она вздохнула. — Видано ли: брат супротив брата, сын супротив отца идет. Болит мое сердце за детей. Правду говорят: война детей не рожает, а убивает. Двое у меня орлов воюют. Вернутся ли? Уж семерых своих братьев похоронила. И за что Аллах беду такую послал.
— Скоро, бабушка, красные партизаны везде победят, и тогда война кончится. Товарищ Атаев сказал, что тогда у всех будет что кушать.
— Эх, сынок. Что мне старой шашлыки да свобода, коли орлы мои не вернутся.
— Вернутся, бабушка. Обязательно вернутся. Скажи лучше, сегодня Булач со своим отрядом был здесь?
— Слыхала я — ждали сегодня наши Булача, да, видно, раздумал он — не заявился. Ну, наши‑то, партизаны, в крепость и поехали, благо никакой помехи им не было.
— В крепость поехали?
— Да, сынок. Окружили там атаевских‑то воинов — ну, они, значит, и поехали им на выручку.
Абдулатип подошел к коню, поправил седло.
— Куда это ты, сынок, собрался? Уж не в крепость ли?
— Да, бабушка.
— Зачем тебе‑то туда? Ведь мал еще воевать! Сидел бы тут или домой поезжай.
— Мне домой нельзя.
— Чего так?
— Мне в крепость надо. — Абдулатип погладил коня, и тот поднял голову, ударил копытами об землю и заржал, словно говорил: «Не привычно мне без дела стоять, привык я к походам». — Сейчас поедем, мой хороший, — Абдулатип взял коня под уздечку. — До сих пор ты мюридам служил, а теперь будешь воевать против них вместе с нами, — и, подведя коня к воротам, Абдулатип ловко вскочил в седло, а конь, будто только и ждавший этого, пулей полетел в сторону крепости по следам партизанских коней. Абдулатип не заметил, как доскакал до перевала. Отсюда расходились две дороги: одна вела к крепости, другая к родному аулу. «Заеду‑ка на мельницу Нухи, может, и Хабиб там. Узнаю от него новости. Может быть, и о моем отце он что‑нибудь знает?» И, пришпорив коня, Абдулатип повернул его к реке.
Мальчик торопился. Он бы с радостью сейчас же направился в крепость, но боялся нарваться на первый же дозор мюридов. «Надо, — решил Абдулатип, — сначала заехать на мельницу. Может, Хабиб окажется там, узнаю у него, где лучше ехать к крепости, а заодно и об отце спрошу: может, он слышал о нем что‑нибудь. Вернулся ли он в аул?» С этими мыслями Абдулатип медленно ехал к реке. Он промок под дождем, его знобило, и он прижался к шее коня — от него шло тепло. Конь неторопливо прошел речку вброд и стал подниматься на каменистый берег. И тут вдруг над головой Абдулатипа просвистели одна за другой пули. Конь вздрогнул и, тревожно заржав, шарахнулся в сторону. Пули продолжали свистеть, конь метался, не зная, куда отскочить, и, не найдя, очевидно, другого выхода, прыгнул через камни обратно в реку, увлекая за собой прижавшегося к нему Абдулатипа. Подняв фонтан брызг, конь в два прыжка перемахнул реку. Впереди была канава, наполовину заполненная водой. Она вела к мельнице. Конь направился было к ней, но вдруг, дико заржав, упал на передние ноги. Он был ранен. Абдулатип, перелетев через его голову, мешком свалился в канаву с водой, на несколько минут потеряв сознание. С трудом подняв передние ноги, конь попытался было встать, но тут же, тихо заржав, рухнул всем телом в канаву. Придя в себя, Абдулатип увидел рядом в канаве бездыханно лежавшего на боку коня и, словно сквозь сон, услышал знакомый резкий голос Гусейна.
— Держите этого сукиного сына, мы с него шкуру снимем! — Тут же трое мюридов бросились на Абдулатипа и, прижав к земле, связали ему сзади руки. Он попытался быстро вырваться, но мюрид прикладом винтовки сбил его с ног. Абдулатип был как в бреду. Он не чувствовал боли от сломанных при падении ребер, не чувствовал ударов приклада. Он словно окаменел. В ушах его еще стояли монотонный шум реки, ржание коня.
— Ведите его на мельницу. — Гусейн сел на коня, положив руки на маузер. Он довольно улыбался в черные, лоснящиеся усы, словно поймал самого опасного партизана.
Абдулатип мельком исподлобья взглянул на него. Как он ненавидел его в эти минуты. «Хоть убей, ничего я тебе не скажу, противная морда», — думал он про себя. Теперь он нисколько не боялся ни плети Гусейна, ни смерти от его пули.
Мюриды привели Абдулатипа на мельницу и привязали к той самой подпорке, к которой еще недавно был привязан глухонемой Хабиб. Гусейн, расставив ноги, встал перед ним, размахивая плеткой. Сначала Абдулатип почти не слышал его голоса, он звучал где‑то слишком далеко, и смысл слов не доходил до него. Мальчик видел лишь тонкий, кривящийся в усмешке рот, злобные, близко посаженные глаза. Постепенно шум в ушах Абдулатипа стихал, и он уже мог разобрать то, что вне себя от ярости кричал брат Издаг.
— Ты что, оглох? Я с тобой разговариваю. Где ты был, повторяю? В крепости?
— Отвечай господину офицеру. — Ординарец Гусейна, уже известный Иса, ударил Абдул'атипа по щеке. — Улизнул от меня в тот раз! Теперь не уйдешь.
— Обыскать его! — приказал Гусейн. — Не иначе в крепости он был. Наверно, Атаев послал за чем‑нибудь. Надеялся, что мальчишку не заподозрят. Ну, уж кого–кого, а этого щенка я знаю. Будешь говорить? — Он ударил Абдулатипа плеткой.
— Ничего я вам не скажу. — Абдулатип закусил окровавленные губы.
— Не скажешь? — Иса так дернул Абдулатипа за ухо, что у мальчика потемнело в глазах.
— Хоть убейте, ничего от меня не узнаете!
— Не беспокойся, убьем как свинью, твоя песенка спета, — и Гусейн, прищурив левый глаз, стал вынимать маузер из кобуры. — Только скажу тебе — умереть не такая уж приятная вещь. Подумай‑ка. Я дам тебе коня и оружие, если все нам расскажешь. Все равно партизанам конец, они окружены в крепости и скоро сдадутся. Атаев через несколько часов будет у нас в руках, его повезут к имаму и там повесят.
— Нет, — крикнул Абдулатип, — все вы врете. Вы не сможете его поймать никогда, никогда! — Он хотел кричать: «Атаеву на помощь идут Кара–Караев и Самурский, они разгромят всех вас», — но, вспомнив слова Атаева, что лучше молчать, когда тебя допрашивает враг, Абдулатип сжал губы.
Ведь Гусейн ждет того, когда Абдулатип заговорит и выдаст секретные сведения.
— Твой Атаев продался иноверцам, — говорил между тем Гусейн. — Он враг ислама и будет наказан. Подумай о своем отце. Ведь из‑за тебя и он может пострадать.
Абдулатип молчал. Он мысленно представлял себе отца. Где‑то оп теперь? Вернулся ли? А вдруг его убили? И во всем виноват этот проклятый Гусейн. Это он арестовал дядю Нуруллу. Гусейн и Горача его убил, и вот теперь мучает его. Ярость ослепила Абдулатипа. Если б не были связаны руки, он бы вцепился в горло Гусейну, никто бы не успел остановить его.
Гусейн, словно отгадав мысли мальчика, видя его горевший бешенством взгляд, невольно отступил.
— А ну, Иса, привяжи‑ка его покрепче.
Иса стянул веревки.
— Ну вот что, — Иса приложил маузер ко лбу Абдулатипа. — Не скажешь все, сейчас же прикончу, никто не узнает, как и где ты погиб.
— Убивай! — закричал Абдулатип. — Ничего от меня не узнаешь, проклятый! — и Абдулатип закрыл глаза, ожидая выстрела. Почему‑то вспомнились ему в эту минуту слова бабушки. Она говорила, что после смерти душа отделяется от тела и улетает к небесам, к душам родных. Может, и его душа встретится скоро с душой бабушки и матери. А тело его партизаны все равно найдут и похоронят. И Атаев обязательно скажет речь на его могиле: «Он славный был партизан, этот Абдулатип, он не испугался мюридов, достойно носил красную звезду, и на могиле его надо высечь звезду». А потом партизаны молча дадут залп из винтовок. И Парида принесет потом цветы на его могилу. А Шамсулвара будет плакать. Бедный Шамсулвара. Кто теперь защитит его от мальчишек? И отец, наверно, тоже будет плакать по нему. Только Издаг будет радоваться его смерти. Остаться бы жить назло ей… Дядя Нурулла говорил: лучше умереть героем, чем жить трусом. Жаль только умереть, досыта не поев шашлыка.
Абдулатип стоял с закрытыми глазами, ощущая на лбу холодный металл маузера. «Чего он медлит? — думал мальчик. — Почему не стреляет?»