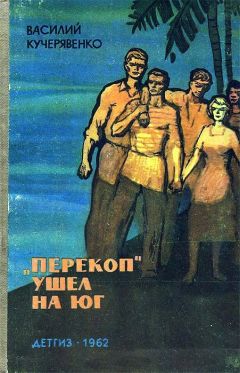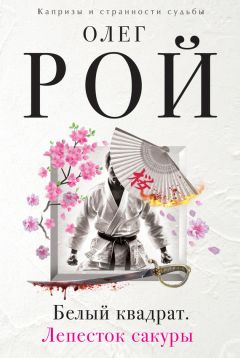Далеко, на сопку Орлиное Гнездо, уходили дома Голубинки, Матросских и Рабочих слободок. И такой светлый, уютный в этот солнечный день был город, о котором так долго и много думалось за эти годы: и там, в «тропическом плену» на далеком острове Большая Натуна, и в тюрьме Сингапура, и в морских рейсах.
Вечерело. Город таял в голубовато-сиреневой дымке, небо было охвачено серебристым сиянием. И облака, как тончайшие, просвеченные насквозь пластинки из фольги, светились то розово-фиолетовым, то золотистым блеском. Они поминутно сменяли свои краски и плыли и плыли на север. И эти сопки с рассыпанными по ним белыми домами, в которых ждали моряков из очередного рейса или с фронта, и это, такое красивое небо, несовместимое с тем, что при таком великолепии могут где-то на море бомбить суда, а там, на фронте, идти бои, и все за то, чтобы сохранить и красоту и спокойствие жилищ и земли. Вспомнился похожий на этот вечер на острове. И такая боль легла на сердце, и такая грусть охватила душу капитана!..
Поднялась незнакомая миловидная худенькая девушка с письмами в руке.
— Вы товарищ Демидов? — спросила девушка.
— Да, — ответил Александр Африканович.
— Вот вам письма.
Демидов с душевным трепетом взял у девушки письма: одно в конверте, другое в листочке, вырванном из школьной тетради в клеточку и сложенном треугольником. На них стояли печати и всевозможные штемпеля.
Демидов замер, держа в обеих руках письма. Потом, преодолев оцепенение, поднял глаза на девушку и, спохватившись, сказал невпопад:
— Спасибо, очень спасибо!..
Заметив взволнованность капитана, девушка ушла. Александр Африканович тут же присел к столу, распечатал письма.
Вдруг его плечи вздрогнули, и он уронил письмо. Сгорбившись, долго сидел ушедший в свои тяжелые раздумья, а по щекам медленно катились слезы.
В дверях появился Раскатов:
— Принесли вам письма, Александр Африканович?
— Да, Алексей Сергеевич, принесли…
— Вижу — недобрые вести?
Прерывающимся голосом Демидов ответил:
— Жена, все родственники погибли в Ленинграде в дни блокады. Один сынишка Вадим, двенадцати лет, остался. Его вывезли в детский дом на Урал… Болен он… Адрес ему сообщили из Ленинграда.
И оба моряка, не раз смотревшие опасности и смерти в глаза, не нашли слов, чтобы продолжать разговор: так велико было горе. Да слова здесь и не могли помочь.
— Александр Африканович, вы куда? Уже вечер, зайдемте ко мне. На судне обойдутся час-другой без вас.
— Я к себе, на судно, надо письмо сейчас же сыну написать, да и дела…
— Письмо письмом, а вы телеграмму пошлите.
Пожав крепко друг другу руку, они разошлись.
Придя в порт, на судно, Александр Африканович перечитал еще раз письмо сына. Долго сидел и думал, выходил на палубу посмотреть, как идут грузовые работы.
На причалах высились горы ящиков с грузом. Лязгали буферами вагоны, подгоняемые паровозами к причалам. Кое-где падали из-под абажуров пучки прозрачного света от синих лампочек. Ни в одном доме города не видно было огня. Лишь какие-то крупные, лохматые звезды холодно и загадочно сияли в черном небе.
Так за всю ночь Демидов и не сомкнул глаз. Сколько он передумал за эти бессонные часы!..
На следующий день Александр Африканович пришел к начальнику пароходства и подал рапорт, в котором просил предоставить ему отпуск.
— Да, тебе тяжело, — говорил Демидову начальник Дальневосточного пароходства, познакомившись с его рапортом, — а мне, думаешь, легко? Один-то я суда не поведу — их много, а моряков мало, тем более капитанов нет.
Федотов вышел из-за стола, махнул рукой в сторону бухты, что виднелась за широким окном его кабинета:
— Видишь, сколько их? А глянь на карту: тут еще больше — почитай, по всему миру идут, хотя война и мало нам дорог оставила. А тут еще топят суда… Понимаешь, тактику этот Гитлер какую завел — уничтожает команды! А сколько надо лет, чтобы выучить и воспитать моряка, тем более капитана, помощника, механика! Ты ведь сам знаешь, а рапорт пишешь. И все требуют — давай грузи суда. Все требуют, но, главное-то, и мое сердце этого требует…
Федотов строго посмотрел на Демидова и увидел или, вернее, почувствовал, как у капитана побледнело лицо, как он уже был готов взять обратно свой рапорт, и, чтобы предупредить это, он торопливо добавил:
— Спасибо, что длительный отпуск не просишь, ты меня этим уважил. Но зато и я тебя тоже уважу. Сколько дней надо, Александр Африканович?
— Суток двенадцать — пятнадцать, — поспешно ответил Демидов.
— Значит, один сынишка остался? И нет уже Зинаиды Александровны? Да, дорого Ленинград заплатил в эту войну. А сынишка… Это хорошо, если он моряком будет: после войны по всем океанам и морям надо плавать. Уже подсчитываем, какой флот нам нужен будет после войны. Понял? Вот только плохо, мы стареем. Головы-то наши побелели… Поезжай да узнай, нет ли в детдоме детей других моряков, тогда телеграмму дай мне. Ведь кто постарше, тех можно юнгами взять.
…Долго ехал Демидов до Перми, еще дольше — до поселка Повжа.
Темные хвойные леса подступали к дороге. Небо свинцово-серое, кое-где с просинью. Местами рощицы белых берез, и будто светлее от них и видно дальше. Наконец, почти на двадцатый день, Демидов добрался до селения с непонятным названием «Повжа» и нашел детский дом.
Не успел Демидов войти во двор детского дома, как его окружили ребятишки.
— А вы настоящий моряк? — не веря своим глазам, спрашивали ребята.
— А вы откуда?
— И море настоящее видели?
И сыпались, сыпались вопросы. А Демидов отвечал и хотел увидеть и узнать среди них своего сынишку. Но Вадима не было. И тут ребята вызвались помочь капитану.
— А как ваша фамилия?
— Демидов.
— А мы знаем, к кому вы приехали! А мы знаем!..
— К Вадику Демидову, правда?
— Правда.
— А он больной, а то бы он уже прибежал — он шустрый.
— А где он? — не скрывая волнения, спросил Александр Африканович.
— Он в комнате, мы вас проводим, мы же его все знаем.
И Демидов ускорил шаг, а за ним поспешили и ребята.
— А вот и наша заведующая! — крикнули детдомовцы.
Александр Африканович поздоровался, назвал себя.
— Вот и хорошо, и еще у одного, значит, у Вадика, нашелся отец. Вы знаете как это хорошо! Ведь ребята все-все верят, что, как окончится война, так за многими приедут родители. И каждый такой приезд для всех нас — событие. Сейчас ребята проводят вас к Вадиму.
Демидов чувствовал себя счастливейшим человеком: через несколько минут он увидит своего сына. Сердце его замирало, и все труднее было сдерживать волнение.
И вот открылась дверь, и на одной из кроваток Александр Африканович увидел — в белой рубашке, под зеленым одеялом лежал черноглазый мальчик. И, прежде чем узнать, он чутьем угадал, что это и есть его сын.
Мальчик, такой же круглолицый, как отец, бледный, с широко открытыми глазами, пристально смотрел на капитана, а по щекам текли слезы. И вдруг он вскочил, смеясь и плача, крикнул:
— Мой папа! Я же знал, я же знал, я всегда знал, что он приедет, папа… — И Вадим бросился на шею отца и повис, прильнув к его груди и крепко сжимая худенькими ручками его шею. — Я так ждал тебя!.. Я всегда знал, что ты приедешь…
Демидов не в силах был произнести ни слова. Он гладил сынишку по головке, худеньким плечикам и спинке. У него тоже текли по щекам слезы. Замирало сердце, перехватывало дыхание. А вокруг стояли ребятишки, и их переполняла радость за счастье маленького товарища.
— Ну хватит, сынок, я ведь с тобой; теперь я ни за что не оставлю тебя одного. Нас теперь всего двое осталось. — И он хотел было добавить: «Ведь это все, что осталось у меня», а сказал другое: — Ты же парень, и притом Демидов. Вот двое и есть нас, Демидовых, а это что-то значит!..
— Папа, какой же ты!.. Я тоже буду учиться, чтобы стать моряком, как ты…
…Вадим и его товарищи водили Александра Африкановича во все свои заветные уголки, показывали лес, поляны, реку. А сколько их у ребят, таких мест!..
— Папа, задержимся на денек, — просил Вадим.
— Нет, сынок, едем! Война, и нам пора к месту пришвартовываться, помогать, чтобы скорее война кончилась, чтобы все дети нашли своих родителей и все люди поняли, что самая большая любовь у каждого из нас — это любовь к семье, к людям, ко всему, что всем нам так дорого.
Однажды, осенью 1960 года, во Владивостоке, на квартире Ильи Бахирева, собрались моряки-перекопцы. Многие из них стали теперь капитанами, штурманами, механиками.
Из окна квартиры открывался чудесный вид на бухту Золотой Рог. Порт жил своей постоянной кипучей жизнью. У причалов высились белые громадины, пассажирские суда «Ильич», «Советский Союз», «Азия», «Русь», «Сибирь»; швартовался загруженный до ватерлинии пароход «Родина». А в море уходил новый пароход, на гафеле которого гордо реял алый флаг. И назывался этот пароход «Перекоп»..