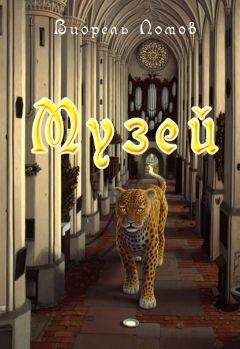— Наша вина, Игорь Иваныч.
— Мне от ваших покаяний не легче. Речь-то о престиже газеты! А вы едва начнете — сразу провал: ваших передовиков только и видели. Читатель что подумает? Они уже не передовики…
— Макарцев учит, что газетное сердце должно биться аритмично, — изрек Езиков, и все заулыбались, кроме редактора.
— Имеется в виду наличие интересных материалов, «гвозди»… Почины — совсем другое. Где, например, Галина Арефьева? Жива?
— Замуж вышла, — мрачно сказал Алексеев, покраснев, будто это была его вина, — фамилию сменила на мужнюю…
— Вот-те на… — только и смог произнести Игорь Иванович. — Чего ж прохлопали?
— А что поделаешь?..
Монтажницу Галину Арефьеву Алексеев поднял несколькими своими статьями. Она сама и ее подруги взяли обязательство выпускать лишние электронные приборы без брака. Как практически это сделать, Алексеев, который придумал почин, представлял смутно, но наверху почин понравился. Галина Арефьева, вносящая достойный вклад в материальную базу пятилетки, глядела со многих фотографий. После статей в «Трудовой правде» Арефьеву сделали делегатом съезда комсомола, статьи о ней замелькали на страницах других газет. Писали уже о тысячах молодых патриоток, развивающих почин электролампового завода. Алексеев из рядовых, так сказать верхом на Арефьевой, въехал в кабинет редактора отдела. И вдруг — Арефьевой нет, а есть какая-то Кириллова!
— Может, поменять фамилию назад? — спросил замредактора Ягубов. — Ей-то какая разница?
— Уговаривали ее, — махнул рукой Алексеев, — уперлась! Я, говорит, мужа люблю!
— Что ж у нее — честолюбия нету?
— Вот что, — нашел выход Игорь Иванович. — Бросать почин нехорошо, но называть ее теперь Кирилловой — не поймут. Пишите о ней пока в прошедшем времени, а в настоящем зовите просто Галиной.
— Это как? — удивился тертый калач Алексеев.
— А так! Пишите: «Почин, который начала Арефьева», «бригада Арефьевой» — и тому подобное. Главное для нас — лезть не вглубь, вперед. Не она сама нам теперь нужна, а почин ее, который уже пошел по стране, так ведь?
— Так-то оно так, — закряхтел Петр Федорович, — но все же…
«Починами починяем экономику», — пробурчал Яков Маркович, но так тихо, что никто не расслышал.
Никаких шуток на планерках не допускалось. Лексикон был принят сугубо партийный. Иронию лучше было придерживать, сохраняя каменное лицо, учитывая, что на планерке стукачи присутствовали непременно.
— Решили, — отрезал Макарцев. — И не будем тянуть резину. Давайте, Езиков, что там на второй полосе?
Замсекретаря, вращая журавлиной шеей, называл темы, делая после каждой небольшую паузу на тот случай, если Макарцеву захочется уточнить или возразить. Игорь Иванович прервал Езикова, когда тот назвал статью «Стрелка качается».
— Кто засылал материал? О чем он?
— Отдел торговли. Продавцы обвешивают покупателей, — ответил Езиков сразу на оба вопроса. — Автор — народный контролер.
— В каком магазине обвешивают, указано?
— Не помню точно.
— А фамилия директора магазина есть? Проверьте. Если нет — вставьте. А то читатель не будет знать, кто виноват в обвесе, и может подумать, что виновата советская власть. Кстати, этот момент конкретной вины всегда надо иметь в виду, когда критикуем. Огула нам не надо. И вот еще что, Езиков: не ставьте рядом обе критические статьи — о плохой работе ЖЭКа и обвесе покупателей. Это может произвести гнетущее впечатление. По второй полосе — все? Пошли на третью.
— Ино, — сказал Езиков.
Так в газете для краткости именовали всю иностранную информацию, поставляемую телеграфными агентствами мира и отобранную для советского читателя в ТАССе. Кроме того, большие газеты вроде «Трудовой правды» держали в крупных странах и своих собственных корреспондентов.
— В центре полосы международный фельетон нашего собкора Овчаренкова, принятый по телефону: «Грозят большой дубинкой». Милитаризация Западной Германии продолжается: в ФРГ выпустили почтовую марку с самолетом Гитлера.
— Не густо, — сказал Макарцев. — Редко пишет, да еще поверхностно. Давайте дальше…
Узкая правда о собкоре Овчаренкове, которую произнес Игорь Иванович, была предназначена только для тех, кто сейчас присутствовал на планерке. Большая часть собкоров «Трудовой правды» за границей — вообще ни разу не была в редакции и не писала ничего. Иногда, впрочем, статьи за их подписью привозил в конверте фельдъегерь. Завотделом корреспондентской сети знал телефоны и координаты лишь некоторых собкоров за границей. Овчаренков в Бонне относился к их числу и действительно присылал материалы. Однако в редакции критиковать работу собкоров за границей было не принято. Один Макарцев мог себе такое позволить. Степени этой его правды были такие.
Для читателей газеты собкор в Бонне разоблачал западногерманский империализм (широкая правда). Для редколлегии и завотделами (как Макарцев и заметил) Овчаренков мелко пишет, надо глубже. Для начальства Овчаренкова в КГБ: «Не подозрительно ли для Запада, что собкоры «Трудовой правды» неумело и мало пишут? Дайте им указание не забывать о газете. Например, нам очень нужна статья, разоблачающая махинации западных политиканов» (узкая правда). Для ЦК: «Собкоры за границей дороговато обходятся газете, съедают всю валюту, отпускаемую редакции. Нельзя ли немного увеличить фонды?» Для своих коллег-приятелей: «У тебя жена едет в ФРГ? Я позвоню нашему собкору Овчаренкову, он ее встретит, кое-что покажет, чтобы она не ходила в толпе со своей тургруппой». Для жены: «Этот Овчаренков — бездельник. Переписывает из немецких газет то, что у меня здесь, в международном отделе, могут перевести. Я ему плачу одну зарплату, вторая автоматически идет ему на сберкнижку из органов, а ни черта не делает, паразит!»
Для себя же Макарцев имел общее представление о функциях своих собкоров: денежное снабжение коммунистических и террористических организаций за границей, тайная пропаганда и дезинформация печати и дипломатов о событиях внутри нашей страны, вербовка иностранцев, связи с «кротами» — нашими резидентами в компартиях, других партиях и редакциях газет и издательств, связи со специалистами по политическим убийствам, особые поручения Центра. Вся эта абсолютная правда нужна для государственной большой политики, понимал Игорь Иванович, и глубже не вникал. Пусть болит голова у тех, кто за это отвечает.
Тем временем Езиков доложил о спорте, литературе, разном и умолк.
— Предложения? — спросил Макарцев. — Вопросы?
Он напомнил об указании не ставить больше одной фотографии на страницу, чтобы эффективнее использовать газетную площадь для пропаганды. Езиков это уже учел. Макарцев сделал еще несколько общих замечаний, в частности о том, как важно сейчас все серьезнее отражать подготовку к столетию Владимира Ильича, не повторяясь при этом, находя новые краски.
— Давайте подумаем, товарищи! Что если ввести такую рубрику: «До столетия остается столько-то дней»? Скромно, значительно и постепенно будет нарастать напряжение. У меня все!
Первым удалился Раппопорт, молча, по-зековски сложив руки назад. За ним, переговариваясь, потянулись остальные. Последней поднялась Локоткова.
— Анна Семеновна, — спросил Макаццев. — Какая у меня остается текучка? А то я скоро в ЦК…
Она принесла папку с бумагами, которые ждали подписи: две командировки, характеристика для райкома заведующему отделом спорта Скобцову на хоккейный чемпионат мира в Швецию. Скобцов был политически грамотен, идейно выдержан, морально устойчив и пил не больше других. К тому же за границу Скобцов уже ездил. Макарцев подписал. Ягубов принес гранки статьи, по поводу которой он хотел посоветоваться.
— После, — отложил редактор. — Еду в ЦК.
Леша побежал греть мотор, и Макарцев уехал. Он пообедал в цековской столовой, успел поговорить с нужными людьми и пошел с планом газеты в сектор печати. Сердце не болело. О серой папке он не вспомнил ни разу ни во время планерки, ни после нее. А теперь, в больнице, у него закралось подозрение, что виновата эта проклятая папка. Что же еще, если не она?
— Зачем вы это сделали? — прошевелил губами Макарцев, хотя в палате никого не было. — Если я для вас плох — кто же лучше?
Он тут же вспомнил, что ему нужны положительные эмоции. Но их не было. Размышления его неожиданно прервали врачи, набившиеся в палату. Они окружили плотным кольцом кровать. Игорь Иванович стал отвечать на вопросы консилиума, еле ворочая языком, а мысль не отступала от папки. Раньше он никогда не был таким мнительным. Верно он поступил, засунув эту чертову рукопись в конверт. Вроде бы мелочь, но единственное спасение, особенно теперь, когда он лежит тут, а она лежит там.
Но то ли он не мог забыть маркиза де Кюстина, то ли Кюстин не забывал его, мысли о прочитанном въелись в память и периодически всплывали в сознании, накладывались на собственный опыт Макарцева и факты жизни, его окружавшей. И это удручало. Он уверял себя, что ничего измениться не могло, но чувствовал, что после чтения книги «Россия в 1839» он уже не мог думать только так, как думал раньше. Трещина во льдах разошлась, полынья стала шире. Разлад с самим собой злил его, прыгать в полынью он не был готов, страх его не проходил.