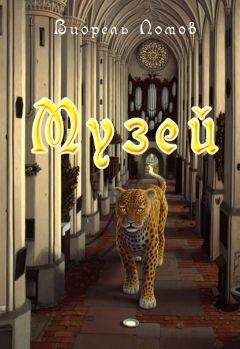Но то ли он не мог забыть маркиза де Кюстина, то ли Кюстин не забывал его, мысли о прочитанном въелись в память и периодически всплывали в сознании, накладывались на собственный опыт Макарцева и факты жизни, его окружавшей. И это удручало. Он уверял себя, что ничего измениться не могло, но чувствовал, что после чтения книги «Россия в 1839» он уже не мог думать только так, как думал раньше. Трещина во льдах разошлась, полынья стала шире. Разлад с самим собой злил его, прыгать в полынью он не был готов, страх его не проходил.
Игорь Иванович обвел глазами комнату, ибо ему показалось, что кто-то появился. Он догадывался, кто мог появиться, но тут же подумал, что уж в Кремлевскую больницу охрана посторонних не допустит.
Действительно, маркиз де Кюстин не появился. А Макарцев его ждал.
17. СТРАСТИ ПО РАППОПОРТУ
Вход в редакцию «Трудовой правды» был свободным, без пропусков. Вохровец требовал удостоверение при переходе в типографский корпус. А в редакционном подъезде пожилая вахтерша, имени которой никто не знал, дремала за старым письменным столом возле лифта. Ее будили случайные посетители, авторы, жалобщики, спрашивая, как пройти в такой-то отдел, ей оставляли конверты с фамилиями сотрудников. Вахтерша на свое усмотрение делила входивших на серьезных и несерьезных. Первых направляла в отделы редакции, вторых — в общественную приемную на консультацию.
Планерка в кабинете Макарцева кончилась без десяти два, и Яков Маркович ощутил срочную необходимость перекусить. Он держал под столом электрическую плитку, на которой кипятил чайник. Раппопорт бросил в стакан щепотку чаю и залил кипятком, а потом перелил чай в другой стакан, чтобы заварка осталась в первом. От откусил кусочек сыру, тщательно прожевал вставными челюстями (зубы у Якова Марковича, те, которые ему не выбили в лагере, прожевала цинга), пососал кусок сахару и запил чаем, когда в дверь постучали.
— Войдите! — гаркнул он.
Дверь медленно приоткрылась, и в нее просунул узкую, бритую голову посетитель.
— Что у вас за отвратительная манера — стучать? — пробурчал Раппопорт. — Вы что — ко мне в спальню? Это учреждение, время рабочее. Что угодно?
Посетитель виновато стоял у двери, держа под мышкой тощий портфель.
— Вы будете товарищ Тавров, редактор отдела коммунистического воспитания? Я не ошибся?
Яков Маркович продолжал методично жевать сыр с сахаром, а прожевав, рявкнул:
— Сядьте на стул!
— Видите ли, — проговорил вошедший, послушно сев и положив на колени портфель.
— Пока я ничего не вижу.
— Я хотел предложить статью на жизненно важную, я бы сказал даже — актуальную тему.
— Кто — вы?
— Я Шатен. Евгений Евгеньевич Шатен. Не брюнет, а Шатен! Так вам легче будет запомнить…
— Допустим… Ну и что?
— Может, вы слышали, я изобрел электронный музыкальный инструмент, который звучит, когда вы к нему приближаетесь. У меня есть авторское свидетельство… Вот…
Раппопорт не взглянул на лист с гербом, положенный перед ним.
— И что?
— Представляете, — мечтательно произнес посетитель, — люди могут балетировать вокруг моего инструмента, и он будет звучать вслед за их движениями. Называется мой инструмент «Танцшатен».
— Танцшатен? Оригинально!
— Еще бы! Совершенно новое искусство… Правда, пока это никому не нужно…
— И вы думаете, балетирование нужно «Трудовой правде»?
— Нет! Написал я о другом. Заходил в отдел промышленности, но они послали к вам. Я расскажу…
Допив чай, Яков Маркович свернул бумагу с корочками сыра и швырнул в корзину. Желудок перестал ныть от голода, и настроение улучшилось.
— Я сам прочту, без рассказа, — Раппопорт облизал губы. — А то я на отбитое ухо плохо слышу.
— Нет, позвольте все же, я кратко изложу суть. Я — человек одинокий, детей нет. Сын погиб на фронте, и где похоронен, не знаю. Два года назад я похоронил жену, а в этом году умерла моя мать. Ей было, вы не поверите, девяносто четыре. Я решил, что оставаться совсем одному мне будет слишком тяжело, и сделал над кроватью нишу. Установил в ней лампы дневного света, чтобы было красиво, поставил две урны: с прахами матери и жены. Теперь они всегда со мной!
— И вы считаете, так удобнее? — Раппопорт внимательно посмотрел в глаза собеседнику.
— Конечно! Если у вас, не дай Бог, кто умер, поставьте в комнату урну и убедитесь! Когда у меня минорное настроение, я подхожу к «Танцшатену», делаю пассы руками, и звучит музыка. И мама, и жена слышат ее вместе со мной. Возможно, и мой сын, убитый на фронте, прилетает к нам. Я имею в виду его душу.
— Пошли бы вы лучше… в соседнюю школу, к юным техникам. Научили бы их конструировать ваш инструмент!
— Ходил! И что? Вы думаете, дети понимают мою музыку? Нет! Они смеются! А мама и жена понимают! В последнее время я усовершенствовал систему: свет в нише загорается только, когда музыка. И чем сильнее она звучит, тем ярче освещаются вазоны с пеплом жены и мамы… Может, вы согласитесь посмотреть? Живу я, правда, в коммуналке, шестеро соседей, но зато недалеко.
— Не сейчас!.. Значит, ваша статья — о восприятии музыки прахами жены и матери?
Он уже навострился сплавить посетителя в отдел литературы и искусства.
— Не совсем, дорогой товарищ Тавров! Это было бы слишком интимно. Видите ли, я хочу поднять в газете вопрос о нецелесообразности существования кладбищ вообще. Они занимают много земли, похороны обходятся трудящимся дорого. Лучше не хоронить!
— Вообще? — уточнил Яков Маркович. — А как?
— Прахи должны держать родственники. Тогда, кроме крематориев, государству никаких забот иметь не надо. Ни кладбищ, ни могил, ни колумбариев. Своего соседа я уже уговорил. Они с женой выделили дома полку в серванте и уже купили вазоны.
— Для кого?
— Себе, конечно. Товарищ Тавров! Я знаю, вы всегда выступаете в газете с ценными починами. Их подхватывает вся страна. Что, еcли мы с вами начнем новый почин: «За не занимать места на кладбищах»?
— «Трудовая правда» выйдет с шапкой на всю полосу «Держите покойников дома»? Вам что, нужен мой прах?
— Ни-ни! Зачем покойников? Только пепел… Посмотрите: в масштабах нашего государства, я прикинул, будет экономия в два с половиной миллиарда рублей. А главное, с точки зрения нашей коммунистической морали — как раз и осуществится то, о чем вы пишите, — о верности заветам героев-отцов.
— Так ведь то же героев!
— Простите, товарищ Тавров, тут я позволю себе с вами не согласиться. У нас героем становится любой!
— Давайте статью! — проскрипел зубами Раппопорт.
Он бегло пробежал глазами по строчкам, чувствуя, как внимательно следит автор за выражением его лица. Если предложить доработать статью, он припрется опять. Если похвалить и взять, а после тянуть, он не отстанет, пока сам не превратится в прах. Нет, тут надо рубить сразу. И, отложив статью в сторону, он сказал:
— Вот что, Шатен! Другие бы, менее принципиальные люди, с вами крутили, я скажу откровенно. Все то, что мы печатаем в газете, — это дерьмо. То, что вы написали, — тоже. Но это не то дерьмо, которое мы печатаем!
— Позвольте!
— Не позволю! Чтобы вы начали почин, у меня лично возражений нет. Но валяйте в другой области! Мы пишем только о героическом настоящем и светлом будущем. И никаких покойников!
Обиженный автор взял со стола статью, сунул ее в портфель и ушел не простившись. Посетители не давали Таврову вздохнуть. Вокруг стола уже сидели трое круглолицых молодых людей и, не сводя глаз, следили за каждым его движением. Двое были одеты в черные костюмы, при галстуках, третий — в серый костюм с красной прожилкой и тоже в галстуке. Раппопорт поежился.
— Что угодно, молодые люди?
— Ваша газета, — начал без предисловий тот парень, что был в сером, — должна осветить один вопрос. Когда вы можете это сделать?
— А вы, собственно, откуда?
— Мы из ЦК комсомола…
— Так у вас, коллеги, есть своя газета! И ей нужны молодые авторы!
— Свою газету мы уже подключили, — сказал молодой человек в сером. — Если надо, надавим.
— Давить не надо, я не клоп. А в чем, собственно, дело?
— Вы, конечно, знаете, что альпинизм — спорт мужественных.
— Как же! Видел по телевизору.
— Однако восхождения проводятся без высоких целей. Вернее, просто с целью покорять вершины.
— Верно! — согласился Раппопорт. — И вы?..
— Мы организуем восхождение в честь столетия Владимира Ильича. Группа комсомольцев во главе с мастером спорта Степановым понесет на вершину пика Коммунизма бюст Ленина и там его установит. Навечно. Я политрук группы. Мы хотели бы, чтобы ваша газета регулярно рассказывала читателям о подготовке беспримерного похода.
— А бюст тяжелый?
— Скажи, Степанов! — приказал политрук.
— Двадцать четыре и семь десятых килограмма…