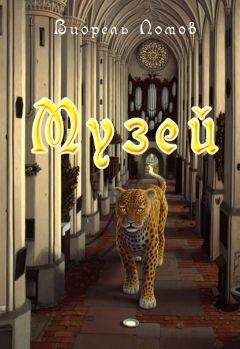Макарцев подумал, что сейчас зайдет секретарша, увидит странного посетителя, и весть о нем разнесется по редакции. Кюстин, казалось, читал его мысли.
— Я забеспокоился, месье, что у вас могут быть неприятности. Вы уж извините меня…
— Нет, это вы меня извините! — повысил голос Игорь Иванович, чувствуя себя в редакторском кабинете значительно более уверенно, чем прошлый раз ночью дома. — На каком основании вы, маркиз, меня преследуете? Чего вы хотите?
— Может быть, вам пришло в голову, — спросил Кюстин, — что это я подбросил вам папку?
— Вы?!
— Вот уж не стал бы я раскручивать подобные интриги, месье! Вас персонально я тогда почувствовал, потому что вы стали меня читать, приняв за современного автора. Это делает мне честь, но, увы, сто двенадцать лет назад я умер. Остается гордиться тем, что мысли мои живы.
— И вы решили меня обратить в свою веру? Убедить меня, что вы правы?
Кулаки у Игоря Ивановича непроизвольно сжались, будто он готовился к драке.
— Ни в коем случае! — успокоил его Кюстин. — Мне нечего устно добавить к тому, что я написал в 1839 году: подробности своего путешествия за прошедшие с тех пор сто с лишним лет я напрочь забыл. Спорить с таким компетентным человеком, как вы, я не в состоянии.
Маркиз потянул шпагу за рукоятку и защелкнул ее обратно.
— Зачем же тогда вы, как говорится, на меня вышли? — недоумевал Игорь Иванович.
Кюстин усмехнулся.
— Мне подумалось, вам понадобится моя моральная поддержка. С тех пор как вы прочитали мою книгу, здесь у вас запрещенную, мы с вами, так сказать, скованы одной цепью, даже если вы и не разделяете мои мысли. Прошлый раз я хотел сказать вам, что был бы весьма благодарен, если бы вы закинули эту папку кому-нибудь из правителей государства, вы ведь туда вхожи.
— Да вы с ума сошли! Закидывайте сами, если у вас есть такие возможности…
— Вот-вот! Другого ответа я и не ожидал, — улыбнулся Кюстин. — Забудьте об этой нелепой идее. Теперь я вижу, вы поступили с этой таинственной папкой наилучшим образом. Если имеешь дело с полицейскими ищейками, жизненно необходимо хитрить. Ведь никогда не знаешь, чего от них ждать. Не хотел бы я стать причиной ваших неприятностей. От души желаю вам благополучия!
Шпага брякнула о паркет, маркиз де Кюстин поднялся со стула, поклонился Макарцеву, сделал несколько шагов по направлению к двери и исчез, не открывая ее.
Макарцев некоторое время сидел не шевелясь и растерянно смотрел в ту точку, где исчез непрошеный французский гость.
К двенадцати тридцати просторный кабинет главного редактора стал заполняться редакторами отделов, членами редколлегии, сотрудниками секретариата. Входили по одному и по двое. Кто не виделся, здоровались, вполголоса переговаривались, рассаживались на любимые места. Макарцев бегло просматривал план завтрашнего номера, отмечая на полях опорные пункты, в которых необходимы коррективы. Настроение его поднялось, растерянности как не бывало. Просмотрев, он отложил план и весело поглядывал на сотрудников, ожидая, пока соберутся все.
Появился замредактора Ягубов. Он со всеми вежливо поздоровался и, положив перед Игорем Ивановичем переработанный сводный план газеты для ЦК, сел неподалеку от главного. Вбежал худой и длинный, с прыщавым лицом, редактор отдела иллюстраций Икуненко с ворохом фотографий, которые он бросил возле своего стула на пол. Заглянул, улыбаясь приветливо, завредакцией Кашин, взвешивая на руке связку ключей. Последним, чуть-чуть опоздав, сопя, ввалился и.о. редактора комвос Тавров, с развевающимися полами пиджака, держа руки сложенными сзади. Он уставился в угол с мрачным видом, будто ждал очередного нагоняя. За ним, убедившись, что все, кто должен быть в кабинете, уже сидят там и дополнительно звонить никому не надо, тихо вошла с блокнотом и ручкой Анна Семеновна. Она закрыла плотно обе двери тамбура и села подле редактора за низенький столик с телефонами. Редакторы отделов ждали, когда Макарцев, чиркнув зажигалкой, закурит. Это сигнал к разговору. Курить на планерке разрешалось только главному.
— Все в сборе?
Разговоры стихли. Поднялся худой и длинный, как жердь, заместитель ответсекретаря Езиков. Он откашлялся, поднял красный фломастер, как указку, и нацелил на первый из четырех макетных листов, красиво заштрихованных и наколотых на острые гвозди специальной панели на стене.
— Номер на четверг, 27 февраля, — Езиков откашлялся. — Первая полоса — шапка на всю ширину полосы, над плашкой «Трудовая правда», наберем деревянным шрифтом: «Идеям великого Ленина побеждать в веках!» Далее…
Игорь Иванович слушал вполуха. Все, о чем говорилось, было привычным, незыблемым. То, что происходило в жизни, могло стихийно меняться. То, о чем писала газета, менялось только по указаниям. И это давало уверенность в правильности действий. Отдельные недоработки, упущения, даже ошибки могут быть, но всегда есть на что опереться. Поэтому Игорь Иванович не боялся говорить на планерках кое-что сверх положенного, в частности почему надо (или не надо) то или иное публиковать. Больше того, действительные события могли, по мнению редактора, помочь газете правильно обойти острые углы. Макарцев по-своему любил говорить правду. Правду он делил на широкую, узкую и абсолютную.
Вернувшись из трехнедельной поездки в США, главный редактор, сказавшись больным, неделю не появлялся на работе. Он обдумывал и сортировал правду по рубрикам. А все обдумав, появился, как всегда оптимистический и авторитетный в редакции, сдержанный и деловой — в ЦК.
Для коллектива рядовых сотрудников редакции была проведена беседа о поездке и встречах в США. Каждый эпизод Макарцев предварял словами: «Америка — больное общество. Тяжело больное, товарищи. Оно разъедается противоречиями. Судите сами…». И приводил мрачные примеры преступности и нищеты. «Хотя в магазинах есть товары, покупательной способностью обладает далеко не все население». Статья Макарцева (он уже давно не писал, но если бы написал) тоже была бы заполнена широкой правдой, но без первой половины последней цитаты.
Узкая правда имела значительно больше градаций. Члены редколлегии и редакторы отделов услышали его более конкретный отчет. («Автомобили, дороги — это у них действительно лучшее в мире, и нам до этого далеко». «Наркотики — реальная язва капитализма». «Коммунистов, к сожалению, у них мало, особенно молодых».) Небольшая группа доверенных людей из редакции в частной беседе услышала добавление к последней фразе: «Говорят, среди коммунистов у них 51 процент — работники ФБР. А вообще, говорить они ни о чем не боятся, абсолютно ни о чем. Ругают своего президента вслух, в метро. Газеты делают политику, а не политика — газеты». Узкая правда была у Макарцева многоликой: для иностранных коммунистов, для коллег-журналистов, для коллег-партийцев, для инструкторов ЦК, секретариата там же, худощавого товарища, предпочитающего оставаться в тени, для жены… Кому какую узкую правду выдать, а какую нет, сколько вслух, а сколько умолчать, Игорь Иванович никогда не путал. Это стало частью его профессии — не договаривать, понимать, когда сказать совсем не то, что знаешь, почти совсем не то, не совсем то или уже почти совсем то, но все же не до конца. В качестве награды подчиненному можешь сказать чуть больше, а в качестве наказания обделить. Узкая правда была валютой.
Абсолютной правдой Макарцев считал сведения для самого себя, мысли, не доверяемые никому. Они касались кое-каких моментов личной жизни, в частности непонимания женой некоторых его поступков, неуправляемости сына. Но это была второстепенная абсолютная правда. Более важная сводилась к размышлениям об истинах, которые иногда решались в его сознании, требуя пересмотра. Это были ценности, которые в предыдущую жизнь Макарцев полагал незыблемыми.
Подчас ему хотелось думать какими-то другими категориями. Но он запрещал себе это. Он убеждал себя, что он не философ, а практик, партийный работник, что пересматривать убеждения поздно. Взвалил на себя, теперь не выкручивайся. Да и столько завоевано, что глупо терять. Ну ее к шутам, такую абсолютную правду, которая, возможно, завтра опять станет иной. А может, ее и вообще на свете нет? Если же и есть, то она каждый раз так тесно смыкается с проявлениями буржуазной идеологии, что даже он, Макарцев, не способен ее отличить. Пускай уж идет, как шло…
— По первой полосе — все? — остановил он любившего поговорить Езикова. — Значит, по промышленности, кроме конвейера, работающего под музыку, ничего? А где у нас рабочий класс, Петр Федорыч, где массовое соцсоревнование?
Алексеев, редактор отдела промышленности и транспорта, виновато вздохнул и хотел ответить, но закрыл отечные глаза и ждал, пока начальство выговорится.
— Почему не ведем почины, которые охватывают народ? — продолжал редактор. — О новых не будем говорить. Но сколько раз решали, что почины надо вести из номера в номер, не забывать?!