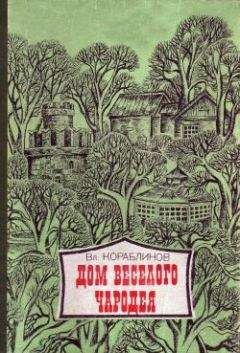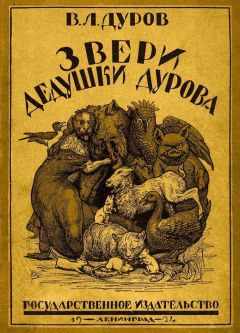Да еще вникни, братец, слава-то какая нашему городу! Всероссийская, сказать не побоюсь. И уж как нам, воронежцам, ее беречь надлежит, – это ты на веки веков запомни!
А что же отец Кирьяк, позвольте спросить?
Где он? Что он? Или сей вздорный чернец уже не печется о прокорме немногочисленной братии Акатова Алексеевского монастыря?
Или вовсе нет его в сущих?
И выходит, он как бы в Лету канул, в речку забвения, ежели проще сказать.
Ну нет, как бы не так!
Мерзкий злыдень сей был живехонек и ярость свою копил неугасимо и неустанно. Он наблюдал и записывал наблюденное. На листках численника, на обороте счетов из мозгалевской лавки по соседству с перечнем отпущенных обители сельдей, круп и копченостей начертано было многое и премногое, начиная от самых давних дней, когда появилась первая запись:
«Года 1901-го
Иулия месяца 4 числа.
Охамели осабачились образованые господа.
Кабель сидить в тарантаси и сам рядушкам. От тово соблазн. Далше сшел на земь, Разговаривал с кабелем рукой махал. Кто за такой господин узнаю».
И далее, узнав, кто сей срамец, все замечал и записывал. Ничто не прошло без внимания Кирьяка. Он по крупицам, любовно собирал книгу грехов и ересей знаменитого артиста. Тут и богиня мраморная значилась как истукан, как идол богопротивный, – голая девка стоит над усадьбой в чем мать родила, бесстыдница. И мертвое тело фараоново, присланное из Петербурга в сундуке (слышно, большие деньги плачены за мертвяка), и голова с отверстой пастью, зубастой, для устрашения православных (а в зеве проклятом, сказывают, вывеска: «Ход воспрещен»).
Кроме того, само собой, и лютеранство в доме, разврат, граммофонные песни… Страм молвить – с двумя немками живет. И зверье в клетках, и псарня (днем и ночью – брех, рык, завыванье), а уж медведи… Один всю братию было обожрал да какого страху наделал; другой на столб фонарный влез, (был, был случай!), опять шум на всю улицу…
Ох, много! А все – ништо, все с рук сходит.
Но пуще не было у Кирьяка ненавистного врага, как мерзкая баба-птица, по-ученому названье, – пеликан. Как впервые увидел, так сразу черная мысль запала: не бывать сей уродине, изведу! Да ведь это сказать легко: изведу, а как изведешь, коли она во дворе, а ворота на крепком запоре, а забор такой, что глянешь вверх – скуфейка валится…
В нижней части сада, с речной стороны, малую щелку отыскал в ограде; огольцов-голубятников с Халютинской приговорил за полтину сторожить у забора: как, дескать, тварь носатая в сад сойдет, так в щелку-то пескаря кинуть на приманку, а в пескаре – иголка, ну-к, лапушка, закуси! И что б вы думали, дважды ведь с иголкой заглатывала, окаянная, – ан нет, ничто не берет!
А тем временем к пеликану пеликаниху добыли, пошли они двоечкой гулять, да так славно прижились, от дома – никуда, и стали их без опаски на речку пускать. Тут-то и осенило чернеца обоих извести. Человечек нужный на примете был – с Гамовской улицы мещанинишка непутевый неизвестной фамилии, а прозвище уличное – Стрелок, маленько тронутый, что ли, охотника изображал из себя: ружьишко за плечами, сумка-ягдташ; все бродит, бывало, в летнее время по бережку, все прицеливается по гусям да по уткам, вроде бы пальнуть собирается. Но не бил, опасался, понимал, что от береговых гусятников пощады не жди, шею намнут без милосердия.
Слабость была у него – выпить, и вот этой-то слабостью отец Кирьяк и замыслил воспользоваться. И даже уговор промеж них состоялся: за зелененькую сторговались прикончить пеликанов. Но подкралась осень, захолодало, диковинных птиц загнали во двор, а там вскоре и Дуров со своими «артистами» подался в зимние странствия. Рушилось дело.
– Ах, штоб тебе! – плюнул Кирьяк. – Все равно изведу!
Между тем в доме произошли перемены: развеселая певунья Лялечка Дурова сделалась госпожою Шевченко.
Это во-первых.
Уважаемая публика по такому случаю ждет, разумеется, свадебных карет, бенгальских хлопушек, звона разбиваемых н а с ч а с т ь е бокалов, криков «горько» и прочих подробностей, обязательных при описании свадеб в богатых домах, могущих позволить себе не только наем карет, но даже и музыкантов, духового, скажем, оркестра из того же клуба приказчиков…
Нет, уважаемые, ничего такого не было, никаких карет, никаких музыкантов, никаких хлопушек.
Всегда шумная Ляля на сей раз тихохонько вышла из дома, в условленном месте встретилась с молодым провизором, и они тайно обвенчались. Об этой их затее знала только Тереза. Анатолий же Леонидович, когда все окончилось и – шуми не шуми, ничего не вернуть, – тогда лишь узнал.
– Ну, ты, я вижу, брат, шустёр! – сказал зятю. – Даром что божье теля с виду…
Тот сдержанно улыбнулся, но в пререкание с тестем вступать не посмел.
И вот именно замужество Лялино и явилось началом упомянутых перемен, из коих главнейшею безусловно надо признать переселение Терезы Ивановны в железнодорожную казенную квартиру Шевченко.
Ни драматические сцены, ни слезы, ни горькие упреки не сопровождали ее решение. Как всегда, строгая и спокойная, она пригласила Анатолия Леонидовича к себе в келью и сообщила ему о своем желании покинуть дом на Мало-Садовой.
– Я так решиль, – твердо сказала Тереза, – и не надо даже немношка говорить… Лялечка будет родить кляйне кинд, и я будет его милый бабушка… Будет пфлеген, – улыбнулась, помолчав, словно вообразив, как она возится с внуком.
Дуров сидел, хмурясь, прикусив кончик уса, мигая, упорно разглядывал камушек перстня. Ему было неприятно желание Терезы, он не любил изменений в привычном домашнем обиходе. Просто не мог себе представить, как это в доме не станет Терезы, ее кельи с цветными стеклами, со святым Иеронимом… А тут еще сюрприз: Лялька и ее распрекрасный аптекарь!
– Не уходи, – сказал, и просьба так странно для него, как-то чуть ли не жалобно прозвучала. – Останься, Тереза…
– К чему? Ах, Тола… Ты – артист, ты понимаешь: представлений кончен. Шлюсс.
«Действительно, – подумал он, – шлюсс…»
– Конец, – проговорил задумчиво. – Ну, смотри.
Дня через два в ворота дуровского дома въехала ломовая телега, запряженная огромным серым битюгом. Конь, былинный, гривастый, стоял смирно, косил глазом на пестроту павлиньего веера, на неподвижных, словно уснувших пеликанов.
Когда погрузили сундуки, узлы и огромные бельевые корзины, вышла Тереза. У ворот ожидал извозчик. Анатолий Леонидович хотел помочь ей подняться на высокую подножку пролетки, но она решительно отвела его руку и легко, молодо вскочила в экипаж.
Смешно перебирая детскими ножками, из дома выбежал малютка Клементьич.
– Забыли, матушка! – кукарекнул, карабкаясь на подножку, протягивая ей какой-то плоский сверток. – Иконку свою позабыли… со зверем-то!
Она нагнулась, поцеловала карлика.
В последнюю минуту примчался запыхавшийся Анатошка, крикнул: «До Девиченской только, ладно, папочка?» – и, не дожидаясь ответа, уже на ходу вскочил, примостился рядом с матерью. Она засмеялась, обняла его, и так, обнявшиеся, они и запомнились Дурову.
– Ну зачем? – глядя вслед, пробормотал он. – Зачем? Ведь у самого вокзала… Вонь, грязь. День и ночь паровозы свистят…
Ах, она и сама прекрасно знала, что нелегко ей придется в неуютной казенной квартире зятя, но…
Ее жизнь была как долгое участие в блистательном номере. И вот наступил конец. Одна за другой гасли яркие лампы, опустевший манеж окутывала тьма.
На углу Девиченской Анатошка спрыгнул с пролетки и, что-то покричав и помахав рукой, побежал домой.
– Шлюсс, – прижимая к губам платок, прошептала Тереза.
– Куды там! – оборотясь, засмеялся извозчик. – Шебутной малый, хлюст…
Его мир простирался необхватно – мир искусства.
Все, что было художеством, находило в нем отзвук. Живописец, актер, литератор жили в нем вечно, сильно и молодо, делая жизнь праздником бесконечным.
Как живописец, рисовальщик он поражал необыкновенной зоркостью художнического восприятия: цвет облака, прозрачность лунного света, алое пятно зонтика в зелени садовых зарослей, необычный ракурс, причудливый изгиб ветвей вяза – все запечатлевалось в памяти с точностью и четкостью поразительной.
Как актер собирал, как бы коллекционируя, разнообразие и выразительность интонаций, жестов, поз.
Меткое словцо, прелесть народной речи, случайные сценки на улице, в дороге, в цирке, дома захватывали, интересовали как литератора, как драматурга.
Добавьте ко всему прирожденную любознательность, постоянную, неутолимую жажду познания и открытия – и станут понятными разнообразие и пестрота его коллекций: история, геология, этнография, первые опыты отечественной авиации…
Он никогда, ни на минуту не становился обывателем, никогда не скучал, ему вечно было некогда. И с этой своей занятостью пребывал в неудержимом разливе чувства, желания, в постоянном устремлении в неведомое чудо.