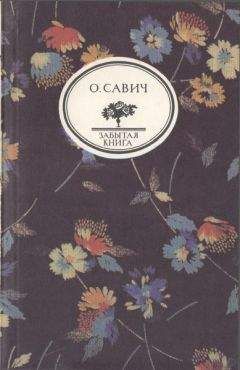Но Петр Петрович мог подобрать только два слова для объяснения: затмение или просветление. Они равно ничего не объясняли. Ему оставалось, таким образом, только молчать. И он замолчал. Но странно — прекрасно зная, что молчит он сам, он все же испытывал такое чувство, будто молчат все кругом. Он слышал обращения родных, он помнил, что сослуживцы тоже что-то говорили, но ему казалось, что все молчали, что все молчало, весь мир молчал. Звуки доходили до него с такой ясностью, чтобы он мог понять их привычный смысл, они не убеждали, и они стали равносильны молчанию. Попытка прислушаться к ним окончилась неудачею. И значит, на молчание можно было ответить только молчанием.
Он обиделся тогда на Евина только за одно: за обвинение в том, будто он, Петр Петрович, сказал неправду. Иное тоже не признавало лжи. И он придумал путаный и неубедительный способ оправдания себя. Он увидел: ему верили. Во лжи, во всяком случае, его не подозревали. Но его правда была непонятна другим. С этим он ничего не мог поделать.
В доме — опять переглядывания, деланные улыбки, затаенный страх. Опять издалека наводили разговор на необходимость посоветоваться с врачом. О посещении распределителя не упоминали, но знали, конечно, все, расспросив друзей. Родным казалось, что вся поправка Петра Петровича пошла насмарку. Они во всем винили Евина. Ведь Петр Петрович стал уже так спокоен, так рассудителен, так порозовели снова его щеки. И надо же было Евину прийти, довести Петра Петровича до обморока и последовавшего за ним посещения распределителя! Теперь приходилось все начинать сначала. Конечно, им мало было того выговора, который объявил Евину тов. Майкерский. Они с недоумением спрашивали у всех, как терпят бухгалтера на службе после того, что он выкинул. Но другие в ответ качали головами и старались осторожно дать понять, что Петр Петрович все-таки деньги из евинского ящика взял — и потому Евин имел основание для своих предположений и для своей обиды. Объяснить же поступок Петра Петровича родные тоже не могли.
Они думали, что Петр Петрович весь поглощен своей неудачею на службе и возмущением выходкою Евина. Они всячески пытались отвлечь и развлечь его мысли. Наперерыв они что-то рассказывали, стараясь, чтобы ни одна минута не проходила в молчании, предлагали почитать вслух, сыграть в шахматы, даже в карты, хотя никто из них не умел играть в излюбленный им преферанс. Он слушал, играл. Но он ничего не слышал, а каждая игра походила на поддавки: родные старались проиграть ему, боясь и маленького огорчения, а он не обдумывал ни одного хода, машинально передвигая фигуры и машинально бросая карты.
По вечерам приходил Камышов, и его приходу все радовались. Он был все-таки свежий человек, со стороны, не причастный ко всем неприятностям, веселый, да и Петр Петрович его любил и любил слушать его разговоры. Камышов переживал трудные дни: он так и не объяснился с Елизаветой, а она, занятая теперь только здоровьем отца, обращала на него очень мало внимания. Уже не было споров и перебранок, но реже и скучнее стали свидания. Он терпеливо ждал возврата к прошлому, чтобы заговорить о любви. Однажды он придумал блестящий план. Он предложил поехать за город. В будничный день ни в поезде, ни на даче никого не встретишь. Елизавета может на службу не пойти. Он, Камышов, тоже освободится. Они возьмут Петра Петровича с собою и весь день проведут на воздухе и на воле. Все поддержали его предложение, и он со страхом ждал ответа от Петра Петровича. К общему удивлению, Петр Петрович согласился. Неизвестно, что руководило им. Может быть, он хотел переменить обстановку, может быть, действительно он рад был подышать чистым воздухом, а может быть, предпочитал общество влюбленной пары всякому другому.
Утром Камышов зашел за своими спутниками, и на извозчике они отправились на вокзал. Петр Петрович чувствовал себя бодро, он как будто забыл обо всем и даже пытался шутить. В вагоне действительно никого не было, да и ехали-то они всего четверть часа. Они сошли с поезда на маленьком полустанке, где вокруг стояло всего несколько домиков. Узенькою тропинкой они пересекли поле и вышли к речке, мелкой и узкой. Поле граничило с леском, опушка подходила к самому берегу. Здесь они и расположились, в тишине и одиночестве. Камышов достал свертки, которых надавала ему Елена Матвевна, разложил бутерброды и поставил в траву бутылку с холодным сладким чаем.
День был жаркий, безоблачный. Откуда-то, еще очень издалека, подходила осень, может быть, поэтому тишина казалась прозрачною, как и воздух, да и зной был не томителен. Ветра не было, колосья колебались редко, словно нехотя, и пробегавшая по ним волна была совсем мелкою. Деревья стояли неподвижно, даже листья на них не колыхались, и только одинокая маленькая осина невдалеке беспрерывно дрожала и чуть-чуть шелестела. Лесок был главным образом сосновый, слегка пахло иглами и смолою. Узенькая каемочка берега была покрыта песком, мелким и чистым. Он уходил в реку, на дно, и там казался еще чище. Вода шла тихо, почти не расплескиваясь. Изредка только, играя, всплескивали ее какие-то маленькие рыбки и пускали пузыри.
Петр Петрович плохо спал эту ночь — бессонница стала для него уже привычкою. Впрочем, бессонница эта была скорее тяжелым полусном, путающим мысли, но не дающим ни отдыха, ни забвения. По утрам он бодрился и забывал про ночь, но вскоре она сказывалась усталостью. Сегодня же чистый воздух и тишина сморили его еще скорее. Только усевшись на опушке, он уже начал зевать, но зевота эта была не болезненная, а звала к крепкому, здоровому сну. Он с охотою закусил и, не прислушиваясь к тому, что говорили Елизавета и Камышов, лег в траву. Глаза его слипались, и он признался, что хочет спать. Камышов и Елизавета замолчали. Петр Петрович слышал еще несколько минут, как шелестела осина, как мирно плескалась вода. Он закрыл лицо газетным листом, чтобы яркий свет солнца не раздражал глаз. Тепло было ему и приятно. Он расстегнул воротник и заснул.
Елизавета и Камышов сидели молча и боялись пошевелиться, чтобы не разбудить Петра Петровича. Они не знали, хорошо ли, что он спит. Но потом Елизавета посмотрела на Камышова сияющими глазами: Петр Петрович захрапел. А храпел он только до болезни. С тех пор как его стала мучить бессонница, он не издавал по ночам никаких звуков, даже когда забывался. Этот храп, раньше немало раздражавший семью, потому что он был слышен по всей квартире, теперь обрадовал Елизавету чуть ли не до слез. Правда, Петр Петрович только слегка посвистывал, только чуть-чуть перекатывал звуки в горле. Это не был еще прежний, здоровый, всесокрушающий храп, но это все-таки был храп.
Тогда Камышов решился наконец открыть рот. Шепотом сказал он Елизавете, что Петр Петрович, конечно, поправится. Елизавета погрозила ему пальцем и оглянулась на спящего. Но храп стал еще громче, Петр Петрович безмятежно спал. Тогда она сама не выдержала и шепотом же объявила Камышову, как она рада, что сегодняшняя прогулка удалась и, может быть, принесет свои плоды для здоровья отца. Потом она сдвинула брови и сказала, что все очень волнуются за Петра Петровича, что на его заработке строился весь бюджет семьи, и неизвестно, как теперь будет, если он не сможет служить, но что, конечно, это меньше всего беспокоит семью, а волнуются все только за его здоровье, и будь он здоров, уж как-нибудь свели бы концы с концами. Камышов, серьезно вздыхая, выслушал все это, как будто он сам этого не знал или слышал в первый раз.
Наступил уже полдень, жара становилась все сильнее. Кругом не было ни души. Петр Петрович спал. Камышов пододвинулся к Елизавете и, безмерно волнуясь и еще более понизив голос, то оглядываясь, то глядя на нее большими умоляющими глазами, дрожащими руками то проводя по волосам, то теребя рубашку, — объявил ей, что он ее любит все больше и больше, а полюбил, как ей известно, с первой встречи; что жить без нее он, само собою разумеется, никак не может; что она его измучила своею холодностью, и он не знает, действительно ли она так холодна к нему, или он может надеяться хотя бы на самые пустяки. Пустяками, однако, оказалась ни больше ни меньше как женитьба. Он подробно изложил, что, хотя он сейчас зарабатывает очень мало и хотя зарабатывать достаточную для содержания семьи сумму будет не скоро, но он желает жениться на Елизавете и ни на ком другом, конечно, и притом жениться немедленно. И много было еще разных «хотя» и «что», а еще больше было нежных и горячих взглядов, и еще настойчивее слов рвались к ней его руки, и трепетнее взглядов тянулось к ней все его тело. Елизавета не отвечала, но и не прерывала, она не глядела на него, но даже уши ее покраснели. Изредка она робко оглядывалась на Петра Петровича, но тот спал. Жара ли, или шепот Камышова, или весь этот день на воле, у реки, с радостью за отца, истомили ее, и ей хотелось закрыть глаза и, может быть, тоже уснуть, но так, чтобы Камышов оставался рядом и чтобы она и во сне слышала только его голос. И когда он придвинулся совсем близко и коснулся ее, когда его дыхание защекотало ей ухо, она вдруг вскочила и, нерешительно посмотрев еще раз на отца, побежала в лесок. Одну секунду Камышов поглядел на нее растерянно, но тотчас сорвался с места и кинулся бегом за ней.