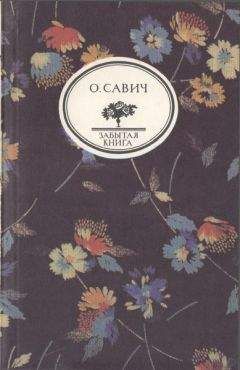В лесу было прохладно, деревья, хоть и не больно густые, все-таки прятали от чужих взоров. А если этих взоров в окружности и не было, то деревья прятали людей от реки, от простора, от полей и, может быть, от них самих. Здесь, тяжело дыша не от бега, а от волнения, Камышов настиг Елизавету. Она тоже с трудом переводила дыхание. Он робко подошел к ней, она все не глядела на него. Он тихо назвал ее по имени, она не обернулась. Он коснулся ее руки, она не отняла ее. Он что-то спросил, она не расслышала, вздохнула, повернулась к нему и как будто совершенно спокойно и совсем просто, с какою-то едва заметною покорностью, даже, может быть, с какою-то жалостью — то ли к нему, то ли к себе — поцеловала его.
Петр Петрович спал, должно быть, очень долго. Наконец оборвался его храп, он завозился в траве, зашуршал газетным листом, покрывавшим его лицо, и отбросил его. Он сел и с недоумением оглянулся. Никого кругом не было, и он сперва не мог сообразить, как он попал сюда. Он негромко — почему-то голоса не хватало — позвал Елену Матвевну. Никто не ответил. Только тогда он вспомнил, что приехал сюда с Елизаветою и Камышовым. Он позвал их, опять негромко, и опять никто ему не ответил.
У него немного болела голова — может быть, солнце все-таки слишком нагрело ее. День был все так же ярок, но Петр Петрович, вероятно, переспал: перед глазами у него плыли цветные круги. Он тяжело встал, сердце у него забилось, как это бывает после первого утреннего движения. Кругом никого не было, и ему показалось, что он невероятно одинок. Конечно, с ним ничего не могло случиться, но все оставили его. Хотя он ни с кем не мог бы говорить и не желал разговаривать, но одиночество было ему неприятно даже физически. Ему очень захотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас около него, какой-нибудь человек, или даже какое-нибудь живое существо. Слишком неподвижно стояли деревья, слишком однообразно склонялись колосья, слишком утомительно плескалась речка, а небо сияло немилосердно и бездушно.
Он оглянулся. Нигде не было следов Елизаветы и Камышова. Он догадался, что уйти они могли только в лес, и пошел за ними. Он втянул голову в плечи и шел быстро: ему казалось, что кто-то идет за ним. Это было не то чтобы жутко, но как-то неприятно. Он думал избавиться от этого ощущения, увидев своих.
Наконец, за деревьями он увидал их. Они сидели на траве и не заметили его приближения. Сидели они так близко друг от друга и так оживленно беседовали, что он невольно пошел тише. Они не услыхали, как он встал над ними. В эту минуту они поцеловались, и поцелуй их был очень долог.
Петру Петровичу Камышов очень нравился, и он, как отец, ничего не имел против того, чтобы Елизавета вышла замуж за хорошего человека. И поцелуй нисколько не показался Петру Петровичу неуместным или преступным. Наоборот, он даже улыбнулся, увидав, что сопротивление Елизаветы окончилось. Он вовсе не хотел мешать влюбленным. Увидев их, он уже успокоился, как успокоился бы, вероятно, увидав любое живое существо. Он повернулся и тихо, на цыпочках, пошел назад.
Он вернулся на старое место и подумал, что Елизавета разговаривала с Камышовым гораздо искреннее, чем с отцом. В этом не было ничего обидного для Петра Петровича, он знал, что так бывает всегда. Но от этой мысли он перешел к другой — к той, что люди вообще теперь стали менее искренни с ним, чем были раньше. Вероятно, он сам был виноват в этом — дались же ему какие-то несообразные ни с чем поступки. А если люди неискренни с ним — значит, им тяжело его общество. Ведь это же, правда, должно быть так тяжело: всегда думать о том, что можно и чего нельзя сказать собеседнику, всегда напряженно искать тайный непонятный смысл в его словах, никогда не знать, что он предпримет сейчас, прятать свои мысли и чувства под неизменною улыбкой, щадить его, жалеть его и мучиться с ним. Петр Петрович часто замечал в жизни, что те люди, которые тяжелы другим, в сущности, никому не нужны. Их жалеют, их любят еще — по памяти, но они только обременяют собою других. И он впервые подумал о том, что он сам теперь — ненужный, томительный для других человек. Что им до того, что он знает и переживает что-то иное. Они не знают иного, они имеют дело только с человеком, и человек этот для них не нужен, скучен и обременителен. И если он ни в чем не виноват, то они еще меньше виноваты в том, что творится с ним. И если они многим обязаны ему, то от этого им вовсе не легче. Конечно, Елизавете и Камышову лучше вдвоем, чем с Петром Петровичем. Но не лучше ли и всем остальным, когда его нет, не было ли бы избавление от него облегчением для них? В распределителе это было именно так.
Мысли эти были новы для Петра Петровича. Они объясняли то молчание, которое он слышал вокруг себя. Просто везде и всюду он был не нужен, слова утешения и ласки, когда они говорятся со скрытыми мыслями, не разбивают молчания, как и деланно веселые лица не прогоняют тоски. До сих пор Петр Петрович думал только о себе. О других он думал, только сталкиваясь с ними, чувствуя, что он с ними связан. Теперь он подумал о том, что ведь и они связаны с ним и что иногда, может быть, он связывает их по рукам и по ногам. Ему стало очень жаль родных, почти до слез. Он твердо решил постараться впредь ничем не огорчать и не затруднять их. Он захотел немедленно привести это решение в исполнение. Как всегда бывает в таких случаях, вместо того, что он хотел, он совершил поступок, который привел в конце концов как раз к обратному действию. Он решил не мешать Елизавете и Камышову. Для этого он ушел от них. А отойдя на порядочное уже расстояние, он подумал, что время раннее, что дома он и так намозолил всем глаза, что до города не так уж далеко и он прекрасно одолеет весь путь пешком. Ему ведь было прописано по возможности больше гулять. И он отправился домой пешком, и ему не пришло в голову, что будет с дочерью, когда она не найдет его на опушке. То есть он даже и об этом подумал, но решил почему-то, что она не будет волноваться, а даже обрадуется тому, что останется одна с Камышовым.
Он вышел на шоссе и бодро зашагал. Он улыбнулся, он был доволен своим решением. Оно даже слегка возвращало его к жизни, направляя его мысли в другую сторону и ставя перед ним новую цель. Конечно, он всю жизнь заботился о близких, но мысль о том, что не следует быть им в тягость, пришла к нему в первый раз. Он решил стать ласковым со всеми, стараться выслушивать все, что они будут. говорить, никогда не жаловаться, не давать им намека на свои мысли и скрывать болезненные ощущения. Ему казалось, что выполнить эту программу будет совсем нетрудно. А она подбадривала его, давала новые силы, и он даже удивился, как это он не заметил раньше, что близким тяжело с ним, и почему раньше не ограждал их от волнений за него.
Так он прошел две-три версты и даже не запыхался. Правда, сердце чуть-чуть заметно постукивало и на лбу выступил пот. Но это могло быть и от жары. Он отошел от шоссе в сторону и присел отдохнуть в холодке. Сердце затихло, ветерок освежил лоб. Он не знал, который час, но по солнцу видел, что до вечера далеко. Путь лежал перед ним короткий, каких-нибудь шесть — восемь верст, да он уже и прошел, вероятно, около половины. Он ни разу не подумал о том, что Елизавета и Камышов бросились на поиски за ним. Он только улыбался, воображая, как восхитительно они проведут весь день одни, никем не охраняемые. Он им всецело сочувствовал и радовался за них.
Отдохнув, он пошел дальше. Однако идти становилось почему-то все труднее. Это было странно, он привык ходить и все еще думал, что за этот месяц ничего не изменилось. Шесть — восемь верст были совершеннейшими пустяками. Врач и тот прописал ему побольше гулять. Значит, совсем не стоило обращать внимания на то, что сердце начало давать перебои. А круги в глазах и легкое головокружение были вызваны, конечно, солнцем и воздухом. Он ведь все время шел с непокрытой головой, и солнце нагрело затылок. Он надвинул фуражку на глаза и решил, что теперь все пройдет.
Все-таки ему пришлось невольно замедлить шаги и несколько раз просто остановиться — очень закололо вдруг в боку. И сердце все сильнее давало себя чувствовать, и не исчезли круги перед глазами, сколько он ни моргал и ни тряс головою. Наоборот, эти ощущения становились все чувствительнее, и отдыхать приходилось уже на каждой полуверсте. А вместе с этим затуманились и мысли. Прежде всего новое решение — охранять близких — показалось ему не таким уж важным, не таким значительным. Может быть, родные не так уж беспокоились за него, а может быть, не стоило обращать внимания на их беспокойство. Ведь то, что происходило с ним, было несравненно важнее. Может быть, надо было посвятить все силы разгадке того, что вошло в его жизнь, и не отвлекаться мелочами. И все равно, если и успокоить других, если даже обмануть их, это не разобьет молчания, потому что они и так ничего сказать не могут, сами ничего не знают. Петр Петрович вовсе не отказывался от своего решения, он ни на секунду не переставал любить родных и желать им всяческого добра, но выходило так, что радоваться оказалось нечему. Его решение ничего не меняло.