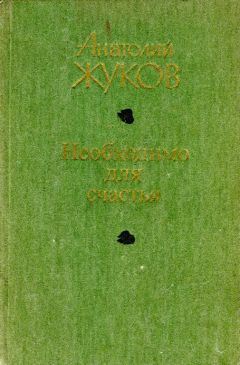После речей майора из военкомата, который говорил, что советские солдаты выполняют свой долг до конца, и завуча, заверившего, что молодое поколение остается верным заветам своих отцов, Зоя Андреевна подошла к надгробию и, нетерпеливо раздвинув венки, перечитала все фамилии. Да, ее Михаила здесь не было, был незнакомый Сергеев Матвей Трофимович, а Сергеева Михаила Тимофеевича не было.
Чувствуя слабость и головокружение, она ухватилась за край плиты, чтобы не упасть, но золотые буквы уже качались и плыли перед глазами, колыхались венки, перевитые лентами, и праздничные лица хуторян, и ноги стали чужими и не держали ее…
* * *
«Задушевная моя подруга Зоя Андреевна! Две недели уж прошло с того несчастного дня, как мы тебя проводили, и вот пришло письмо от тебя, спасибо, не забыла. Вчера приезжал в хутор молодой парень из Сибири, ходил на братскую могилу: Сергеев Матвей Трофимович — его отец. Вот оно как вышло, Зоенька!
На старом хуторе я была еще раз, народ там живет бестолковый, поставили общий памятник, написали «Вечная память освободителям нашего хутора» и успокоились. А кто эти освободители, как их зовут, и горюшка мало. Вот теперь Каштанов приказал написать все имена.
Обидно, что твой Миша погиб там, а не у нашего хутора. Столько ты для нас сделала, родной всем стала, и вот… Как подумаю об этом, так и плачу. Всю жизнь, голубушка, ездила ты на чужую могилу с цветами. Вот он, твой праздничный сон-то, сбылся…
А все Алена. Сбила тогда всех нас с толку: «Он, в точности он, на лейтенанта моего похожий!» Ну и нам так показалось. А не подумали того, что для Алены каждый красивый мужик на ее лейтенанта похож.
Ну ты все равно, Зоенька, не убивайся, не закатилась твоя луна, а только на другое место перешла. И ты уж не забывай нас, голубушка, заезжай, когда на старом хуторе будешь, меня не забывай.
Я теперь места себе не нахожу без работы, сижу целыми днями дома, и каждый день годом кажется. Вот была бы ты рядом, мне легче было бы, а так на твой зонтик гляжу, как полоумная, смеюсь и плачу. Алена ко мне заходит редко, отелы начались, а Веньку совсем не вижу — у него дела, перестраивать задумал животноводство и кур уже всех отправил на убойный пункт. Надо, говорит, специализироваться на каких-то основных отраслях, а вы жили как при натуральном хозяйстве: и коровы у вас, и овцы, и свиньи, и куры, и зерно. Ничего не поделаешь, Зоенька, он ученый, может быть, у него лучше получится, как знать.
А мне все равно обидно. Я ведь только об колхозе и думала — и вот, оказывается, не так думала, детям нашим мало этого и они все хотят переделать по-своему. Я не против, я своему хутору не злодейка, но вдруг у них не получится, Зоя? Что тогда? Вот сижу и думаю, мысли разные тревожат, и нет мне покоя.
А ты как живешь? Пропиши, не болеешь ли, а весной приедешь в наши края или нет? Ты приезжай, не забывай, мы для тебя все равно не чужие, как бы ни вышло…»
1968 г.
Василий Дунин не обижался, когда его называли мужланом.
— Мужлан? — переспрашивал он. — Это, наверно, большой и сильный мужик. Что же тут плохого? — И лениво пожимал тяжелыми плечами.
Он действительно самый сильный и самый высокий солдат в полку — это все знают. На строевом смотре кто идет впереди со знаменем? Дунин. Кому всех глубже окоп рыть? Дунину. Кем съедаются два солдатских пайка? Дуниным. О ком говорят как о первом силаче? О Дунине. Может быть, это неправда? Однажды он шутя поднял за буфер передок интендантской полуторки. Когда восхищенная рота, грузившая у склада картошку, крикнула ему «ура», Дунин как бы между прочим заметил, что машина для него ерунда.
— Я паровоз подымал, — заявил он, отряхивая пыльные ладони.
— Ну да??! — уставились на него изумленные солдаты. — Правда, поднимал?
— Врать я буду, что ли!.. Подымал… Но не поднял.
Солдаты улыбались разочарованно: ведь, глядя на этого гиганта, действительно можно подумать, что такой и впрямь способен поднять даже паровоз.
Однако, несмотря на славу первого силача, а может, именно благодаря ей, над ним мог весело, а порой и обидно пошутить самый последний солдат в полку: такому ведь приятно сознавать, что над силой богатыря торжествует хитрость незаметного сверчка, которого богатырь мог прибить одним щелчком. Но над ним шутили безбоязненно, уверенные в полной безнаказанности. Да и шутки, в общем, были беззлобными, солдатскими.
В часы послеобеденного отдыха, например, когда Дунин, подогнув не укладывающиеся на кровати ноги, богатырски храпел на всю казарму, а большинство солдат еще не спали, взводный шутник (такие всегда есть в каждом подразделении) подходил к кровати и заговорщицки подмигивал дневальному.
— Вася, а Вась! — ласково будил он Дунина. — Василь Семеныч!
— А-а, — мычал Дунин, поворачиваясь на жалобно скрипящей койке. — Чего надо?
— Голова у тебя упала, — говорил шутник, пятясь подальше от кровати.
— Голова? — недоумевал полусонный Дунин. — Куда упала?
— Да с подушки упала, свалилась…
— Поправил бы, дурак, — окончательно просыпался Дунин. — Беспокоишь за каждой малостью. — И, удобней укладываясь, опять засыпал под веселый смех солдат.
К службе он относился серьезно, учился старательно, но без всякого интереса и воодушевления — просто выполнял свой долг, и все. По некоторым дисциплинам он отставал до конца службы. Особенно плохо давалась ему политподготовка.
— Демократический социализм? — разводил он руками. — Ну и что? Правильно.
— Централизм, — поправлял его взводный.
— Да?! — удивлялся Дунин. — Теперь понятно. Что это такое — централизм?
Он плохо запоминал книжные премудрости, сокрушенно качал стриженой головой и огорчался, но не за себя, а за лейтенанта.
— Жалко мне его, — говорил он солдатам после занятий. — Я-то ладно, я и так проживу, а он руководитель, процент ученья снизится. Вы уж учитесь лучше. — И при этом глядел на солдат просительно и виновато.
Как это ни странно, отставал он и по физподготовке. Он совсем не владел своим громоздким телом и удивлялся, глядя, как маленький лейтенант легко крутит на турнике «солнце» или прыгает через коня.
— Ловкий! — восхищался он. — Будто кузнечик скачет!
После долгих мучений с ним лейтенант зачислил Дунина в секцию тяжелой атлетики и решил сделать из него штангиста. Но и здесь Дунин не прижился. В первый свой приход в спортзал он поглядел на работу полковых тяжелоатлетов, которые в жиме брали шестьдесят килограммов, и махнул рукой — игрушки. Ему навесили еще два больших диска и предложили попробовать.
— Сколько тут весу? — спросил Дунин.
— Ровно сто, товарищ будущий Власов. Добавить?
— А чего же играть! Вешай все «блины».
Навесили еще. Сто шестьдесят килограммов.
Дунин легко поднял на грудь, а выше не смог — кисти не выворачивались под грузом.
— Не умею, — решил он. — В мешке бы я все эти железки унес.
Принесли большой мешок, в котором таскали опилки на штурмовую полосу. Дунин разобрал штангу, засунул диски в мешок. Потом разобрал вторую — и тоже туда. Около трехсот килограммов. Поплевал на ладони, уверенно поднял, вскинул на плечо, но тут мешок лопнул, и диски с грохотом и звоном рухнули на пол, отдавив ногу лейтенанту.
— Валенок! — завизжал лейтенант, прыгая на одной ноге и морщась от боли. — Я из вас картошку вытрясу!
Он дал какое-то распоряжение сержанту, возглавлявшему секцию штангистов, и запрыгал в санчасть.
Дунина гоняли месяца два, приучали к тренировкам, но он совершенно не выносил системы, и от него отступились. Вот тогда-то взводный тихо возненавидел его и назвал мужланом.
У него были на то основания. Сам лейтенант был заметным офицером в полку. Аккуратный до педантизма, грамотный, он получил воспитание в суворовском училище, не знал порядка лучше армейского и относился с легким презрением к разболтанной «гражданке». Дунин был ее классическим воплощением.
До призыва в армию он работал в колхозной кузнице, но больше любил землю и каждый год с начала посевной и до осени бросал кузницу на молотобойца и жил в поле. С ним ничего не могли поделать. С плуга он пересаживался на сеялку, потом на косилку, затем штурвалил на комбайне, а под конец опять садился на плуг. В этом была его жизнь.
Армейская служба ему не давалась, хотя он был сметлив, а порой находчив и решителен. Если на огневом рубеже не замечали его обычной мужиковатости, то на тактике он был примером собранности, он хорошо действовал один, умело управлял отделением, а после вводной «лейтенант ранен» повел взвод, и его решения хотя и не предвосхищали законов тактической науки, были в данной обстановке верными и, возможно, практически единственными. Чутьем брал, здравым смыслом.