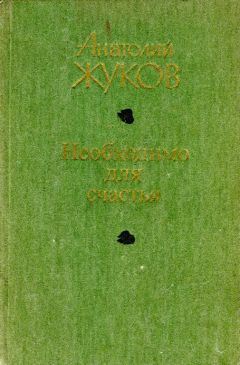День был веселый, яркий. Вовсю разливалось солнце, сверкали лужи после недавнего дождя, тополя у казармы разворачивали первые душистые листочки. Дунин поглядел на ошалелую возню воробьев на ветках и пошел в степь. Там ему было просторней, легче думалось.
Поля пригородного совхоза оживали. Гусеничный трактор боронил подсохшую зябь на взгорье, неподалеку другой такой же трактор перепахивал клеверище. Дунин жадно следил за ними, взволнованно дышал, и глаза его наливались тяжелой влагой.
Поздним вечером он снова пришел к лейтенанту, которого нашел в штабе, и сказал, забыв о воинском этикете:
— Слушай, друг. Похлопочи за меня об отпуске, а? Или к ротному разреши обратиться. Надо мне.
— Это еще что такое? — возмутился оскорбленный лейтенант. — Вы пьяны?
— Ты не шуми, — сказал Дунин. — Не пьяный я, здоровый. Только похлопочи все же. Сил нет больше.
— Извольте говорить по-уставному! — Лейтенант вытянулся, поправил на рукаве повязку дежурного, замер.
— Эх ты, малый… — Дунин глядел на лейтенанта сверху, улыбался и вдруг подтянулся, молодцевато, с шиком отдал честь и, печатая строевой шаг, вышел из штаба.
На вечерней поверке его не оказалось, на утренней тоже. Дунин исчез. Доложили ротному, прибежал встревоженный замполит. Налицо было ЧП. Невероятное, невозможное ЧП — дезертирство в мирное время.
Вечером в расположение роты пришел командир части.
— Прозевали товарища? — спросил полковник. — Эх вы, друзья-воины. Ну, что теперь будем делать?
Он сидел в красном уголке, седой, сутулый, с колодой орденских планок на кителе, и вглядывался в лица солдат.
— Ну, а если завтра выступать придется?
— Один ничего не сделает.
— Это верно, обойдемся. Только ведь с такими солдатами не армия это будет, а?
Если бы солдаты стояли в строю и он распекал их, говорил о долге, обязанностях военнослужащего, о присяге, было бы легче. Но полковник ничего этого не говорил. Он спрашивал. И надо было отвечать. Каждый должен был найти ответ для себя. И понять поступок Дунина.
— Разрешите? — спросил лейтенант, вскакивая.
Полковник разрешил.
— Рядовой Дунин слабо успевал по политподготовке. Его интеллектуальные способности невысоки, характерной чертой его является замедленность реакции и мышления.
— Значит, дезертировал по глупости?
Лейтенант вспыхнул.
— Не совсем так, товарищ полковник. Рядовой Дунин обращался ко мне дважды. Перед исчезновением он обратился еще раз, причем в совершенно непозволительной форме.
— Что он вам сказал?
— Он говорил, что у них сеют и он тоскует по колхозу и по своей жене… — Лейтенант снисходительно улыбнулся. — Я думаю, вздорность причин очевидна. Это, простите, блажь, недостойная мужчины.
— Ясно, — сказал полковник. — А что он сделал непозволительного?
— Он обращался так, словно я ему не командир, а друг или приятель.
— Он и ко мне так обратился, — сказал с улыбкой полковник. — Пришел вчера на квартиру и прямо бухнул: «Пусти, батя!»
Лица солдат просветлели, все заулыбались облегченно.
Полковник весь вечер проговорил с солдатами о «гражданке», вспоминал свою родную деревню, в которой не был уже пять лет, виновато вздыхал. Утром лейтенанта вызвали в штаб — его назначили на должность адъютанта, — а в роту пришел новый взводный, такой же молодой и строгий. Только понятливей, как потом определил Дунин, возвратившись из дома.
Он возвратился через три дня. Поездка ему удалась. С аэродрома в областном центре он в тот же день доехал автобусом до райцентра, а около полуночи, отмахав восемнадцать километров грязной весенней дорогой, стоял у своего дома и прислушивался к разговору в палисаднике.
Его дружок Федянька говорил о космосе, о весне, о звездах, которые будут полем человеческой деятельности. Зинка сидела рядом и вздыхала. Зачем вздыхала, дурочка? Ну, мужик бы был, парень ли хороший, а то ведь мозгляк, кролик, соплей перешибить можно.
— Вон ту красную звездочку видишь? — спрашивал Федянька.
— Не слепая, — обиделась Зинка.
Сквозь голые прутья кленов хорошо были видны их фигурки — обе до смешного маленькие.
— Это Марс. Там растения есть, каналы, марсиане. Я в книжке читал — «Аэлита» называется, — и в газетах было. Мы тоже туда полетим скоро.
И этот о красной планете.
— Сейчас полетите, — сказал Дунин и совсем вышел из-за угла. — Сейчас вы у меня полетите!
Фигурки торопливо вскочили и замерли у завалинки, безмолвные, обреченные.
Шлепая грязными чавкающими сапогами, Дунин прошел в палисадник, бросил у ног чемодан и уставился на Федяньку.
— Ну?
— Мы тут ждем… Мы с Зиной о тебе… Мы… — Федянька от неожиданности забыл слова, стал заикаться. — М-мы ду-ду-мали, Василий, мол, там…
Руки у него висели вдоль тела, смирные и безвольные. Такого и ударить-то нельзя.
— Ладно, — сказал Дунин, взяв его за ухо. — Мамке скажешь. — И отвел, как школьника, до распахнутой Калитки.
— Не знаешь ты, — лепетал Федянька. — Ты у-узнаешь…
— Узнаю, — сказал Дунин и крутнул ему ухо на прощанье.
Зинка плакала. Она вышла на свет, падавший из кухонного окошка ярким пятном, и плакала беззвучно, потерянно. Слезы лились по щекам двумя блестящими ручейками, она не вытирала их и казалась еще ничтожней и красивей в своем ничтожестве. Дунин громоздился над ней беспомощной глыбой и тяжело молчал. Зинка плакала, ожидая. Постояв молча, он взял чемодан и пошел в избу. Зинка покорно поплелась сзади.
В передней было сумрачно. Свет из кухни показывал пустую детскую качалку и неразобранную супружескую кровать. О звездах говорят, не дошли еще до кровати-то.
Дунин поставил на лавку чемодан и прошел к детской качалке. Он так и не увидел Наташку, по карточке только знал. Родить сумела, а сберечь не смогла, сколько ни наказывал.
Дунин открыл чемодан, достал поллитру «Особой» и шоколадку. Шоколадку отнес в качалку и положил на подушку, водку поставил на стол.
— Выпьем за встречу-то долгожданную, — предложил Зинке.
Зинка всхлипнула.
Дунин выпил всю поллитровку, стал отдыхать. Опьянеть не опьянел, а тяжело как-то сделалось и скучно. Съел две луковицы, пожевал корочку хлеба, закурил. Зинка разобрала постель и сидела на кровати в одной рубашке, распустив по плечам пенные волосы. Дунину стало тоскливо.
— Не сеют еще? — спросил он первое попавшееся.
— Вы-выехали, — давясь, выдохнула Зинка.
Дунин встал, вышел на крыльцо. Ночь уже кончалась. Небо за хлевом побледнело, звезды съежились и мерцали слабыми искорками, перекликались в разных концах петухи. Дунин бросил окурок в лужу, послушал его короткое шипенье и отправился в поле.
За околицей села, у жиденькой лесополосы стоял серой тенью дощатый вагончик бригадного стана. Знакомого флажка над крышей не было.
Отставали ребята.
Дунин нагнулся и зачерпнул в горсть мягкой прохладной земли. Помял, понюхал. Навоз, видно, опять сожгли, не запахали. Разбрасывают по зяби, а перепахивать им дядя станет. Время только ведут. По парам надо, а по зяби — минеральные.
Под вагончиком из вороха соломы торчали тонкие ноги в сапогах. Дунин нагнулся, потянул за сапог и бросил: из соломы поднялась знакомая воробьиная голова в мохнатой большой шапке.
— Федянька?! — удивился Дунин.
Федянька выкатился из-под вагончика, вскочил, торопливо отряхиваясь от соломы. Он был в грязных штанах и в замасленной до кожаного блеска фуфайке, от которой пахло землей и мазутом. Хахаль. Снял костюмчик-то.
— Ты же учетчиком был? — спросил Дунин.
— Б-был, — сказал Федянька, все еще отряхиваясь и не глядя на Дунина. — Будешь тут с вами. Ушли все, ссслужат, а сеять не-некому.
— Ты не юли, — сказал Дунин, взяв его за плечо. — Ты не бойся, бить я тебя не буду.
— Би-ить? Спасибо! — всхлипнул от обиды Федянька. — Два года не виделись, а он ухи рвет…
— С радости это я, — рассердился Дунин.
— Свинья-а! — заплакал Федянька. — Четвертый ме-месяц за женой его хожу, а он за ухи… с-скотина… Стыда в тебе нет.
— Почему? — растерялся Дунин.
— Потому. Извелась она, Зинка-то, измаялась… де-девчонку схоронила и как шальная ходит…
Дунин облегченно вздохнул, тихо засмеялся.
— Места не найдет… День работаю, ночь ее караулю, развлекаю…
Дунин качнулся и горячо прижал вздрагивающую грязную фигурку. Федянька благодарно прильнул к нему. Такой худенький, слабый и преданный.
Потом они сидели рядом на соломе, успокоенные и близкие, и Федянька рассказывал о работе. Дунин курил, слушал, иногда переспрашивал.
— У Суходола опять ячмень станете сеять?
— Ячмень. Мы там бобы в прошлом году сеяли.
— А навоз чего сожгли? Химию требуем, а добро под носом портится. Пары надо оставлять, по парам разбрасывайте и запахивайте. Земле надо отдых давать, кормить.