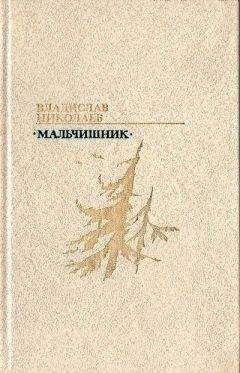— Врем.
— Ну что ж, давай.
Герман запустил по плечо руку в рюкзак, вытащил растрепанный толстый том без передней обложки и передал его Маше.
Не от ручья, а откуда-то совсем с другой стороны воротился к костру Вениамин. Однако волосы у него были влажные, свисали тоненькими косичками по вискам, пятнами промокла энцефалитка на спине, ясно: где-то выкупался. Он всегда купался на отшибе, подальше от людских глаз: стеснялся своего нескладного длинного тела и пестрых от разноцветных заплат единственных трусов.
Лева, мутовкой помешивающий в ведре фыркающую пшенную кашу, скосил на Вениамина разбойные свои глаза, и по лицу его скользнула мстительная ухмылка:
— Ага, американский шпиен явился! Что, уже сделал свое дело?
Вениамин виновато улыбнулся, как бы умолял насмешника: ну, хватит, перестань, я же к тебе не пристаю, и ты не приставай.
Но Лева продолжал:
— Ты ведь не купаться ходил в одиночку. Знаю я тебя. Прячешься, чтобы на передатчике поработать. А косички для маскировки слюной мочишь… Ну, что сегодня выстукал своим хозяевам? Пришли, мол, на новую стоянку. Координаты такие-то и такие-то. Построили аэродром. Немедленно присылайте реактивный самолет за образцами. Условный сигнал — три костра в линию.
На лице Вениамина застыла вымученная улыбка, глаза смотрели грустно, покорно.
— Какой тебе валютой платят? — не унимался повар, и в уголке его рта торжествующе блестел золотой зуб. — Долларами или рублями? Наверно, долларами. Ну, смотри, пощекочу! Все до монеты заберу. Думаешь, я забыл, как ты меня на теплоходе угощал?
Лева кинул быстрый взгляд на Коркина, потом на Германа — слушают ли? — и продолжал с еще большим воодушевлением:
— На теплоходе известная обстановочка: как ни бьешься, к вечеру все равно напьешься. На третий день обшарил карманы, а там вошь на аркане. Опохмелиться жутко охота. Ну, я к Вене. Он-то всю дорогу прижимал денежку. «Дорогой ты мой, разлюбезный. Может, пока мы с тобой не друзья, но обязательно таковыми станем. Ведь портянки на одном солнце сушить едем. Выручай!..» Вот такое произнес я золотое слово, со слезою смешанное. И вроде проняло оно Веню. Повел он меня в ресторан. Но опохмелил, думаете? Как бы не так! Купил мне какой-то гуляш. Не выдержал Веня испытания на дружбу. Ведь не тот друг, говорят, который накормит, напоит, а тот, который опохмелит… А теперь, американский шпиен, ты в моих руках. Захочу — голодом заморю! Но пока еще рановато, не дознался, где доллары прячешь.
— Хватит, Лева, трепаться, — оборвал повара Герман. — Жрать охота. Живот подвело.
— А у меня все готово, — отозвался Лева и, сложив ладони рупором, прокричал на всю долину:
— Па-адъем!
Перебрался с подседельной кошмой поближе к костру Александр Григорьевич; Маша вылезла из-под полога и присела рядом с Коркиным; Герман вооружился миской и ложкой — словом, все настроились на серьезный лад, один Вениамин — вместо ложки взял в руки топор и направился в лиственничный лес рубить для сигнальных костров хвою. Обедал он каждый раз последним, подбирал прямо из кухонных ведер остатки, так ему больше доставалось.
Лева восседал верхом на вьючном седле и черпаком разливал по мискам дымящийся борщ. Во всей его позе — подбородок кверху вскинут, грудь выпячена, плечи расправлены — выражалось сознание собственной значимости. И черпаком он поводил так, будто одаривал людей не борщом из консервированных продуктов, а счастьем на всю жизнь.
— Ну и ну! — заглянув поочередно во все ведра, подивился Александр Григорьевич. — И борщ, и каша с маслом, и компот. Праздник, что ли, седни по календарю? Али Лев Наумыч именинник?
— До моих именин далеко, вот, может, у начальника какой праздник: он приказал накормить вас на полную катушку.
Маша украдкой взглянула на Коркина и уткнулась вспыхнувшим лицом почти в самую тарелку.
— Очень вкусно, Левочка! — с преувеличенным восторгом похвалила она. — У тебя настоящий талант!
— Спасибо, — с достоинством поклонившись, поблагодарил Лева. — Ты бы это папе моему сказала. Возможно, сразу бы переменил мнение о моих способностях. Папа у меня большой чудак. Считает, что я совершенно никчемный человечишка. Впрочем, по двум пунктам он оказался прав. Говаривал мне в детстве: «Ну, быть тебе, Левка, летчиком, летать с работы на работу!» И точно! Как в воду глядел старик, — разводя руками, подивился Лева. — И еще предсказывал: жить мне недоучкой с четырьмя классами образования. И тоже в точку попал! Сколько я ни пытался, никак не мог в пятый перелезть. Последнюю попытку делал уже в восемнадцать лет, в армии. Начальных классов в тамошней вечерней школе не было, и меня по сему поводу послали в общеобразовательную. Сел — пристроился на заднюю парту, а ноги чуть не из-под передней высовываются. Кругом малышня. Таращат удивленно глазенки. Пришла учительница. Раз-два — встала малышня. И я должен был подняться. Поднатужился, вытянул ноги, чуть парту не развалил. Учительница командует: «А сейчас, дети, положите свои руки на парты. Проверим чистоту». И пошла по рядам. Добралась по меня, остановилась. «А у тебя, мальчик, под ногтями грязь. Выйди-ка за дверь. Там в конце коридора умывальник есть». Ребятня гогочет. Я вышел и больше не вернулся. А еще папа наставлял: ученье — свет, а неученье — тьма. Так оно и есть, — с притворной грустью вздохнул Лева. — Ученье — свет неоновых огней, а неученье — тьма полярной ночи.
Маша давно уже поставила тарелку на землю и раскачивалась всем телом в неудержимом смехе.
— Ой, Лева, — простонала она. — До полусмерти уморил. И напридумывает же!
Улыбался и Коркин. Тоненько хихикал Александр Григорьевич.
Только на Германа Левин рассказ словно бы не произвел никакого впечатления — сурово молчал техник, даже хмурился недовольно.
Вскоре воротился в лагерь Вениамин, принеся на спине целую копну зеленых лиственничных лап.
— Иди, подбирай в ведрах, — позвал его повар.
Стряхнув на землю ношу, Вениамин подошел к костру, обтер о штаны руки и робко посмотрел на Леву:
— Все уже, что ли, поели?
— Все. Теперь твоя очередь. Да смотри, чтобы дно в ведрах блестело. Ясно?
— Ясно.
Набрав в карманы сухарей и прихватив закопченные ведра с остатками борща и каши, Вениамин отошел в сторонку, к куче хвои. Там он сел на землю, раздвинул широко длинные ноги, утвердил между ними понадежнее ведро с борщом, вытащил из-за голенища ложку, обтер ее полой куртки и неторопливо, основательно принялся за еду.
— Посуду потом перемоешь в ручье! — крикнул Лева.
— Угу, — промычал в ответ Вениамин.
— А я заберусь в холодок и сосну минуток шестьсот. Надо и трудящемуся человеку отдохнуть. Вертолет прилетит, не забудьте разбудить.
— А ты бы все-таки собрал продукты и посуду в сумы, — сказал Коркин. — Прилетит, некогда будет.
— Веня! — позвал Лева. — Посуду и продукты сложи во вьючные сумы. И чтоб ни черепка не потерялось!
— Угу.
Лева надвинул на глаза захватанную руками белую копку, посмотрел, жмурясь, на солнышко, потом лениво поднялся на ноги, подхватил под мышку спальный мешок и побрел своим праздным развинченным шагом к ручью, в прохладные тенистые тальники, напевая на ходу:
Мы не сеем и не пашем,
А валяем дурака…
Когда Лева скрылся в тальниках, Маша промолвила:
— Интересный парень. Откуда что и берется.
— Все тунеядцы — интересные болтуны, — буркнул Герман.
— Какой же он тунеядец? — удивилась Маша. — Тунеядец — это тот, кто не работает. А Лева ведь работает.
— Кем? Поваром! С его-то силой надо шурфы бить.
— Кто-то и готовить должен.
— А он готовит? Сама, поди, видишь: Веня все за него делает. И дров нарубит, и костер разведет, и посуду перемоет. А Лева только в ведре помешивает мутовкой, которую, если не ошибаюсь, вырезал ему тоже Веня… Вот именно: не сеет и не пашет… А Вене по его росту надо давать две порции, чтобы Лева не покупал его за одонки. Это я серьезно предлагаю, начальник.
— Тебя не переспоришь, — махнула рукой Маша.
— Не переспоришь, — согласился Герман. — Потому что прав.
— Все равно, кроме Левы, никто из вас и развеселить не умеет.
— Вот она, женская логика! Перед ней я пас!
2
Двадцать пятого вертолет не прилетел.
Целый день в остекленело-прозрачном небе парил орел. На одном из останцев, в камнях, находилось орлиное гнездо, и хозяин беспокоился за него, не спускал острых глаз с долины, куда рано утром пришли незнакомые люди.
А там, в долине, вскоре будто все повымерло. Спрятались под белыми пологами люди. Погас костер. Долго шаяла сучковатая головня, испуская тоненькой струйкой голубой дымок, но и она в конце концов истлела, изнемогла. В теплой золе заснул щенок, положив морду на побитые распухшие лапы. А на берегу ручья в высокой траве легли кони; попритихли медные ботала на их шеях.