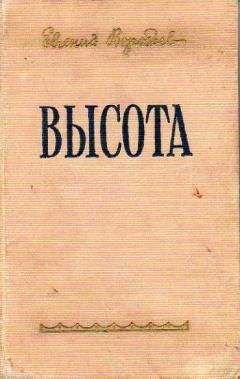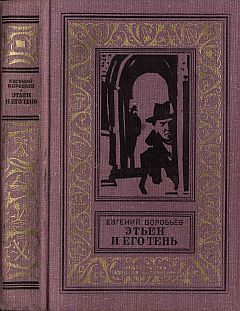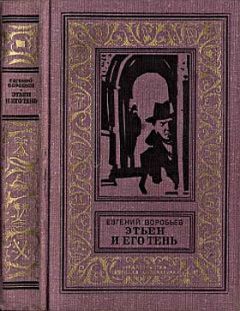Кажется, не было на батарее никого, кто бы за эти дни не проведал строго-арестованную, не выразил ей сочувствия. Все пять суток повар присылал такие густые щи, что ложка в котелке торчком стояла. Расчет второго орудия ради праздничка выкроил четверть фляжки для согрева — все-таки четверть века Красной Армии! Хватило согреться и ей и ее конвойному.
Наводчик второго орудия, родом из оренбургской степи, несколько раз раненный, — все знали, что он неравнодушен к Незабудке, — принес несколько кубиков какао, она разводила их в кружке с кипятком — тоже подкормка. При таком чутком отношении рядового и сержантского состава батареи, да еще в своей землянке, на своих нарах, возле печурки, обеспеченной боекомплектом березовых дров, пять суток гауптвахты показались не такими мучительными.
Она знала, что на батарее к ней хорошо относятся. Но не всех же она когда-то перевязывала или эвакуировала под огнем! Она почувствовала, что в отношении многих к ней сквозит неосознанная благодарность за то, что в какую-то минуту жизни страшную безмолвно запретила им вести себя трусливо. На такой случай у нее был расхожий запас присловий, вроде «кто отстанет, того пуля первого достанет», «смелого пуля боится, смелого штык не берет», «в спину всегда легче попасть», вспоминала и строчки раешника «Фома Смыслов», вычитанные из армейской газеты:
Кто смотрит с ясностью
В глаза опасности
Глазами смелости —
Тот будет в целости.
Да, она научилась смотреть, не зажмуриваясь, опасности в глаза, но не догадывалась: еще дороже бойких заученных слов был для артиллеристов ее неиссякаемый запас надежды. Она не понимала, что само присутствие на огневой позиции симпатичной молодой женщины, отнюдь не богатырского сложения, помогало иным парням и мужичкам поднабраться смелости.
Писарь батареи, тоже ее когдатошний пациент-клиент, предупредил ее, что командиру батареи звонил подполковник. Собирает на нее материал, чтобы передать дело в трибунал. Ему очень хотелось услышать о Незабудке плохую аттестацию, однако их старший лейтенант, родом из студентов — высших математиков, вступился за Незабудку. Возможно, она на праздничном вечере набедокурила, оскорбила кого-то словами, а кого-то действием. Но у себя на батарее ведет себя по-гвардейски, хотя и независимо. Может вспылить, но в личной жизни проявляет выдержку.
Не набрав компрометирующего материала для трибунала, подполковник, злопамятная душа, решил отчислить Незабудку с батареи и отправить в запасный полк — об этом через несколько дней тоже сигнализировал писарь. Не простил ей подполковник «дурацкого приказа», сказанного во всеуслышание, в присутствии гостей, старших офицеров, девчат, приглашенных на танцы.
В сопроводительной бумаге, которая уйдет за сургучной печатью в запасный полк, не будет, конечно, написано, как на самом деле все произошло на праздничном вечере, потому что, если бы было написано правдиво, само откомандирование стало бы нелепым. Чего это вдруг старшего сержанта-санинструктора снижают в звании и завертывают с переднего края?
Струсила? В этом ее заподозрить трудно, не позволят ни орден, ни медаль «За отвагу».
Если такую боевую дивчину выгнали с батареи, значит, ясно — аморалка. И наверно, крупнокалиберная аморалка, если даже награды не выручили.
Другой неблаговидный поступок?
Нарушила воинскую присягу?
Лучше сразу в штрафную роту, чем в запасный полк, невесть в каком — во втором или тридевятом эшелоне.
Незабудка слышала, что в запасный полк отправляли и тех фронтовичек, кто забеременел. Бывало, грозили отправить в штрафную команду «за уклонение от воинской повинности».
Она начинала злиться при одной мысли, что ей предстоит неминуемое объяснение с кем-то из начальства. Хорошо, если судьба сведет со вчерашним фронтовиком, который сам томится в запасном полку после тяжелого ранения. А если там бумажная душа отсиживается от войны по всем правилам тылового камуфляжа? Будет лезть с хромовыми сапогами в душу...
Незабудка мысленно уже попрощалась с батареей; со дня на день ждала отправки. Прошел февраль — кривые дороги, а вместе с февралем прошло затишье. Сосед слева затеял разведку боем, фашисты тоже стали активничать и почти ежедневно над поредевшим, изрубленным снарядами березняком гремела канонада. По выражению старшего лейтенанта-математика, фашист вел контрбатарейную борьбу.
Незабудка и прежде держалась под огнем не слишком-то застенчиво, а сейчас так даже бесшабашно, подчас безрассудно.
После полудня начался сильный огневой налет — на немецкой батарее четырехорудийного состава калибр 105 мм не ленились и снарядов не жалели. Одновременно на березовую опушку с противным подвыванием пикировал «юнкерс-87».
— Самолет наш? — наивно спросил новобранец, запрокинув голову.
— Наш, наш, лезь в блиндаж! — порекомендовала Незабудка с коротким смешком.
Но сама при этом не торопилась укрыться в глубоком окопчике, вырытом тут же, возле орудийного лафета.
— Тебе что, жить надоело? — заорал из окопчика командир огневого взвода.
— Да, надоело.
— Отставить! А ну, сигай!.. Разговорчики!!! — Он с силой дернул Незабудку за полу шинели, она сверзилась в окопчик и оказалась рядом с ним.
И тут же над их головами ударило желто-фиолетовое пламя разрыва, потянуло прогорклым дымом. Никто из расчета не пострадал, но панораму орудия разбило, два осколка ударили в орудийный щит, оставив на нем вмятины, ящик со стреляными гильзами отшвырнуло в сторону с сумасшедшим медным трезвоном.
— Ну, убьют тебя — дело житейское, — спокойно сказал командир огневого взвода. — А если тебе руку-ногу оторвет? Да тебя и перевязать будет некому. Одна ты несешь свой красный крест.
«В самом деле, кто останется на огневой позиции, когда меня отправят в запасный полк? Весной небось работенки прибавится, — впервые задумалась Незабудка. — Хорошо — пришлют надежную дивчину. А если какую-нибудь пустельгу?»
Внезапно обострившееся чувство ответственности и незнаемая прежде тревога за бойцов батареи придали ей силы для того, чтобы не покориться несправедливому приказу.
Назавтра снова завьюжило так, что сами саперы сбились со следа, не сразу разобрались — где их собственноручное минное поле, а где немецкое. Но похоже — эта вьюга последняя.
Под снежной завесой фашисты наконец исхитрились и ночью утащили убитого сапера, примерзшего к колючкам и превратившегося в белый сугроб поверх проволочного заграждения. Злопамятный подполковник выругал вчера батарейцев последними словами за эту, как он выразился, «поблажку противнику». А командир батареи, и разведчики, и Незабудка, все, кому приходилось сиживать в боевом охранении, почувствовали облегчение: всю зиму перед глазами маячил замороженный фриц...
После танцевального чэпэ Незабудка в деревню Нитяжи не заглядывала, находила повод отбояриться. А тут сама придумала причину отлучиться с батареи в медсанбат.
Весна за минувший месяц не осталась без дела. Сугробы по краям проселка осели. Задымленный снег тронула нездоровая мартовская чернота, скользкая дорога пожелтела от конской мочи, потемнела от колес. Наверно, подумала Незабудка, дорогу теперь хорошо видать немецкой «раме»; после зимней спячки «рама» становилась все назойливее.
После медсанбата Незабудка завернула в штаб дивизиона. Она решила поговорить с подполковником в четыре глаза.
Поначалу тот подумал, что Легошина явилась к нему полная смирения. Да, она согласна поехать в штаб армии и встретиться с капитаном химслужбы, который любит танцы-шманцы-обниманцы. Но повидает она этого бойкого кавалера не для того, чтобы просить прощения, а для более серьезного дела: нужно исправить ошибку, которая вкралась прошлой осенью в донесение подполковника.
— Какое донесение? Ты на что намекаешь?
— Не намекаю, а говорю... Как вы доложили о гибели повара Аверина? «Подорвался на мине...» Аверин выполнял тогда ваш боевой приказ, — она с нажимом произнесла слова «боевой приказ» и выдержала паузу.
Подполковник тоже промолчал.
— Только несколько клочков от его шинели подобрала я тогда на берегу Десны. На батарее мне каждая минута дорога, а в запасном полку, пока меня будут расспрашивать-допрашивать, а я буду бездельничать и ждать нового назначения, у меня найдется свободное время послать рапорт с объяснением...
Незабудка повернулась, левое плечо вперед и по-строевому вышла из штаба.
Как она и рассчитывала, подполковник оставил ее в покое.
Но сама Незабудка еще долго помнила эту историю, потому что испытывала хроническое чувство неловкости, даже стыда.
В сущности, она поступила безнравственно. И не сейчас, а тогда, прошлой осенью. Как назвать ее теперешнее поведение? Кажется, это называют шантажом... Уж если ей привелось случайно узнать о лживом донесении, она обязана была тогда же сообщить: ефрейтор Аверин погиб от разрыва гранаты, когда глушил рыбу для подполковницкой ухи.