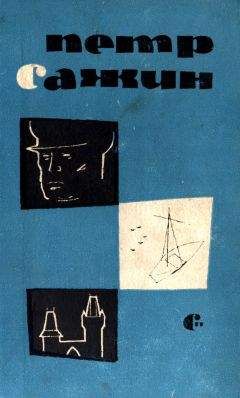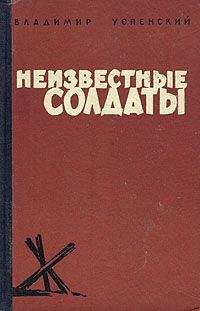— У тебя богатый репертуар, — сказала Полина, появляясь с чашками в руках.
— От Патлюка заимствую. Песня в строю — больное место его.
— Противный твой ротный.
— Обыкновенный.
— Нет, противный. С виду лихой, а внутри лицемер. Я всех приятелей Горицвета терпеть не могу. Подобрались такие — перед начальством дрожат. Свое слово даже шепотом сказать боятся. Да и нет у них своих слов… Ты с сахаром будешь?
— Безо всего, только покрепче. Почему лицемер?
— Мы уже скоро год, как разошлись с Горицветом. Жить с ним в одном доме тошно. А он просит — не уезжай. Боится, что узнают в полку, репутация его подмокнет. Ходатайствует, чтобы на Дальний Восток перевели. Уедет туда один, все тихо и мирно.
— Скоро?
— Осенью обещают перевести… Он мне сказал: живи как хочешь, делай что хочешь, только соблюдай форму, чтобы в полку нареканий не было… Вот тебе человек. И Патлюк такой же.
— А разошлись почему? — Голос Бесстужева заметно дрогнул.
— Не люблю.
— А раньше-то?
— А раньше дура была. Окончила техникум, не успела одуматься, осмотреться. Приехал командир, в форме. Ухаживает, девчонки завидуют… Вышла замуж. Он в Средней Азии служил, два года с ним только и виделись, что в отпуску. А сюда вместе приехали. Старик он. Не возрастом, а душой старик. Смеяться не умеет. На двадцать лет вперед всю жизнь рассчитал, знает, когда и какое звание получит. И боится, как бы чего не вышло. Начальник на него хмуро посмотрит — три дня сумрачный ходит. И еще — морковные котлетки ест. Брр! — брезгливо повела плечами Полина. — Я девяносто четыре дня терпела. Днем отвлекусь — ничего. А вечером, как он вернется, хоть из дому беги… Ну, на девяносто пятый день я ему сказала: собирай свои блокноты агитатора и прочие первоисточники, отдай мне мои тряпки и в эту комнату — ни ногой.
— Так и сказала?
— Ага, — озорно улыбнулась Полина. — Его надо было ударить в лоб, ошеломить, чтобы растерялся. А то пришлось бы мне слушать лекцию о значении семьи в социалистическом обществе… С тех пор так и живем. У нас и коридоры разные. И, знаешь, давай не вспоминать о нем. Была черная страница, а теперь она вырвана.
— Вот и хорошо… Протяни руку, там сверток в шинели.
Полина привстала.
— Ой, духи! Мне? Ну, спасибо, — обрадовалась она, благодарно прижимаясь щекой к его плечу. — И как раз мои любимые… Ты шел только из-за книги, да?
— Нет, не только.
— Ты очень недогадливый, — серьезно сказала Полина. — Неужели ты ничего не замечал?
— Замечал, конечно. Но я думал, что это вообще… Кокетство, что ли… Ну, может, и с другими так…
— А ты видел?
— Пожалуй, нет.
— Пожалуй, — повторила она. — Я помню, как ты первый раз в библиотеку пришел. Смотришь строго, а сам такой молодой-молодой. Спросил у меня, как записаться, и покраснел.
— Это у меня часто бывает, кожа такая.
— Не храбрись. Покраснел — ладно. Но улыбнулся-то как! Потом эта улыбка мне весь день работать мешала. Хорошо улыбнулся, как спящий ребенок.
— Спасибо, — хмыкнул он.
— Нет, правда, так было. Потом Патлюк заявился. Спрашиваю: это в вашу роту новый мальчик прибыл? А он: гы-гы, хорош мальчик. Взводом командует…
— Времени-то двенадцать уже! — спохватился Бесстужев. — В роту пора.
— Среди ночи?
— Надо ведь.
— У меня места хватит.
— Дежурство проверю, — упрямился он, а самому очень не хотелось уходить.
Сидел бы и сидел так, ощущая на плече приятную тяжесть ее головы.
— Оставайся. Я на кухне лягу. Кушетка там у меня.
— Хорошо, — согласился Бесстужев, с трудом сдерживая нахлынувшую радость. — Ну, а свежим воздухом подышать можно?
— Дверь найдешь?
— Постараюсь.
Стоя на крыльце, он жадно курил папиросу, вдыхая вместе с дымом бодрящий, обжигающий горло воздух. Курил торопливо, хотелось скорей вернуться к Полине. Старался не думать ни о чем, гнал от себя все мысли. Пусть будет так, как должно быть.
Когда он возвратился в комнату, Полина возилась на кухне.
— Иди, — сказала она. — Там все готово.
Стол в комнате был уже убран, кровать раскрыта. Юрий снял сапоги, подвинул стул, аккуратно сложил гимнастерку и галифе. Лег, не погасив света. После жесткого матраца непривычно было на мягкой перине. Не шевелясь, напряженно ловил звуки, доносившиеся из кухни. Вот заплескалась вода, звякнуло что-то. Почудилось — всхлипнула Полина. Неужели плачет? Но почему? Хотел окликнуть, но не посмел.
На кухне наступила тишина. Бесстужев хотел уже подняться, загасить свет, когда послышались легкие, крадущиеся шаги.
Полина вошла осторожно. Длинная белая рубашка скрывала ее до самых пяток. Подняв полные руки с ямочками на локтях, потянулась вывернуть лампочку. На одну секунду увидел он плавный изгиб оголившегося плеча, смолянисто-черные волосы под мышкой.
Лампочка мигнула и погасла.
— Не уходи, — шепотом попросил Юрий.
* * *
Игорь развалился на диване, задрав на валик ноги в ботинках, выталкивал изо рта дым, чтобы получались кольца, и лениво следил, как сизые круги, расширяясь и колеблясь, поднимаются к потолку. В комнате было полусумрачно, наступал вечер. Снег на крыше дома через улицу казался фиолетовым. За столом, вполоборота к Игорю, сидел Альфред Ермаков, сосредоточенно шевелил толстыми губами, читая книгу, выписывал что-то. Работал он в нижней рубашке, рассеянно почесывал белую, пухлую грудь. На глазах очки с массивными выпуклыми стеклами.
— Двенадцать, — сказал Игорь.
— Двенадцать — чего?
— Подряд двенадцать колец.
Альфред сдвинул на лоб очки, прищурился.
— Твое поведение позволяет сделать некоторые выводы.
— Давай, послушаю.
— Прежде всего — данный субъект, а именно студент Булгаков, не отличается усидчивостью и трудолюбием. Второе — спокойствию данного субъекта накануне экзамена можно только позавидовать.
— Маркунин меня не завалит.
— А собственная совесть?
— Она подсказывает мне: отдохни, чтобы прийти на экзамен со свежей головой.
— Хорошая у тебя совесть, Игорь.
— Первый сорт.
— А я вот не могу так.
— Тебе и нельзя. Полез в аспирантуру звезды хватать, значит, терпи, гни горб богатырский.
— Я не усну спокойно, если не сделаю все, что наметил.
— Никогда не делай сегодня того, что можно сделать завтра.
— Сам придумал?
— Нет, Марк Твен, кажется.
— Не очень умно.
— Не все умное — правильно.
— Ты сегодня склонен философствовать. С чего бы?
— Поживешь с тобой — зафилософствуешь.
— Приятно слышать, — буркнул Альфред, наклоняясь над книгой.
— Слушай, ученый, закрой талмуд. Все равно заниматься не дам.
— Нельзя же так, Игорь! Опять проболтаем весь вечер.
— Все можно. Завтра уеду, вот тогда и сиди.
Альфред встал, потянулся, грузно переваливаясь, подошел к дивану. Он и сам любил порассуждать и был доволен, что нашел в Игоре терпеливого слушателя.
— Подвинься, — попросил он, садясь рядом. — Должен заявить, Игорь, что ты склонен к деспотизму.
— По отношению к тебе, что ли?
— Не только. К Насте, например. Она чудесная девушка и, вероятно, любит тебя.
— Может, и так.
— А что за отношение у тебя к ней? Она приходит в гости, а ты, вместо того чтобы занимать ее, посылаешь за папиросами.
— Не посылаю, а прошу.
— Хорошая просьба. «Настя, папирос принесла бы», — подражая Игорю, грубовато сказал Альфред.
— Ну и что? Она же одета была. Спустилась вниз, и дело в шляпе.
— Вообще, ты интересный индивидуум. Этакая завидная провинциальная непосредственность. Ты воспринимаешь мир в его первой философской категории.
— Что-то я такой категории не знаю.
— Естественно. Она существует в моей системе. Я пришел к выводу, что люди по своим восприятиям окружающего делятся на три группы.
— Разжуй.
— Постараюсь, если дашь спички.
— Держи, слушаю.
— Изволь. Человек просто воспринимает факты и явления такими, какими они возникают перед ним. Без анализа причин и следствий. Началась война, погасла спичка, в 1709 году была Полтавская битва, на улице идет снег, умерла Авдотья Филипповна. Ум фиксирует эти факты, и человек подступает, сообразуясь с ними. Если холодно — надевает пальто, принесли повестку — отправляется на военную службу, если скучно — пускает дым в потолок. Все просто и ясно.
— Это мне?
— Именно.
— Ну и врешь, — рассердился Игорь. — У меня до черта путаницы в голосе. Я вот дружу с Настей, а думаю о другой. И Настя знает о ком. Я хочу ей теплое слово сказать, да не получается. Настя это видит. Ей тяжело, и у меня кошки сердце царапают. Это, по-твоему, как?
— Ты говоришь о явлениях другого порядка. Тут превалирует инстинкт, а не философия. Но все-таки это в какой-то мере шаг ко второй категории восприятия, когда человек начинает видеть и понимать всю сложную взаимосвязь фактов и явлений. Это, дружище, самый тяжелый период. Понимаешь все и ничего не понимаешь. Ну, например, погасла спичка. Пустяк, да?