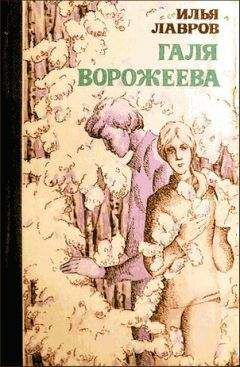У шофера глаза уже не были наглыми, они бессмысленно хлопали запыленными ресницами. Он не выпячивал самоуверенно грудь колесом, перегибаясь назад, как это делал на току. Галя тогда приметила эту его особенность. Булькал под ольхой родничок. В тягостном молчании он звучал громко.
Первым пришел в себя Семенов. Он почесал в затылке, обескураженно развел руками, опустился на мешок и закурил.
— Ну, что же, Галина, виноваты, — от всей души признался Семенов. — Бес попутал. Ты, конечно, будешь права, если донесешь… скажешь директору. И правильно будут судить нас. И укатают за решетку. — Он поднялся, бросил папиросу, приказал Комлеву:
— Бери, семь раз хороший!
Они понесли мешок обратно, Галя шла за ними. И не знала, что сказать, — до того она сама растерялась и так ей было стыдно за этих людей.
Они забросили мешок в машину, Семенов высыпал пшеницу, разровнял ногой кучу, спрыгнул на землю и, деловито свертывая мешок трубкой, распорядился:
— Крой на элеватор.
Комлев торопливо забрался в кабину, грузовик, сминая кусты и красную костянику в траве, вынесся из овражка, пустив клубок дыма. Галя настороженно глянула на Семенова, когда они пошли по дороге вверх.
Семенов, зажимая под мышкой мешок, степенно поглаживая золотые усы, говорил:
— Да, бывают положения… Вот так опустишься и дойдешь до того, что людям в глаза совестно взглянуть. — Голос его звучал задумчиво, с горечью, словно он говорил сам с собой. — Эх, оторвешься от всего и живешь собачьей жизнью, ничего не понимаешь, не видишь.
Они шли не торопясь, Семенов рассказывал, как бедствовали его отец и мать, какое было у него беспросветное детство, как мало пришлось учиться. И Гале вдруг стало жаль его.
— Знаешь что, Галина! У меня к тебе просьба. Надо сделать так, чтобы вся вина пала на меня. Пусть уж отвечу за все я. У меня семеро с ложками по лавкам не сидят, у меня только трое ребятишек, и жена здоровая. Как-нибудь вытянет их на картошке, пока я буду отсиживать заслуженное. Десятку-то мне припаяют. Помучаются, конечно, хлебнут сиротского горя, — но — ничего. А у Комлева — он в Васильевке живет — совсем дело плохо. У него пятеро лесенкой, мал-мала меньше, и бабенка никудышная. Она без него загнется, а ребятишки — или по миру, или в детдом. Понимаешь? Стоит тебе только сказать, и вся семья его развалится. От слова твоего рухнет. Семерых ты утопишь в слезах. Он ведь не от сладкой жизни на такое решился. Как бы не сунул голову в петлю. Не тронь его, ударь по мне. Хотя машина-то его! Никак его не выгородить.
«Десять лет тюрьмы! Повеситься может!» — похолодела Галя.
Она представила кучу ребятишек, и сердце ее перевернулось. И Семенов, готовый все взять на себя, показался ей не таким уж плохим. «Ведь не удалось им украсть, — подумала она, — зерно вернули. Пережили. Теперь это им будет уроком».
Уже показались крайние огороды, избы Журавки.
— Вы даете мне слово, что больше такого не будет? — спросила она тихо.
— Да чтоб мне провалиться на этом месте, если я еще пойду на такое дело! — Семенов ударил себя в грудь. — Работать нужно! Я бы сейчас с великой радостью сел не в камеру, а в кабину трактора! — с тоской воскликнул Семенов. — Я ведь когда-то был трактористом.
— Ну так вот, — решительно сказала Галя, останавливаясь, — садитесь на трактор, а я… ничего и нигде не скажу. Я надеюсь на вас.
Семенов крепко сжал ее руку, преданно и благодарно посмотрел в ее глаза.
— По гроб жизни этого не забуду. Ты, Галя, действительно семь раз хорошая! — И он быстро свернул в проулок.
Галя побрела к дому, чувствуя смутное недовольство собой. Она пыталась уговорить себя: «Жалеть надо человека. Нельзя быть твердокаменной. И я никакая не соучастница. Просто я даю возможность людям исправиться. Нельзя же толкать их на десять лет в тюрьму! — И тут же прокрадывалось сомнение: — Ты скрыла, значит, ты лжешь! Значит, ты с ними».
Домой она пришла мрачная, молчаливая. Никогда еще не казалась ей жизнь такой трудной. Но лишь представила она ребятишек шофера — маленьких, беспомощных, как опять почувствовала себя правой…
27
Гале приснилась извилистая дорога под луной. Луна была такой яркой, что на земле виднелись желтые листья. По дороге на мотоцикле уносился Виктор. Она бежала следом, звала его, но он не слышал. Так она и проснулась в порыве отчаяния, и это жило в ней весь день, пока она работала, навесной волокушей сдвигая копны соломы на край поля.
Все еще видя извивы этой дороги, усыпанной листьями, Галя пришла вечером в клуб. Он ярко светился окнами и распахнутой дверью. Ребята в фойе играли на бильярде, толпились в небольшой библиотеке.
Галя вошла в пустой зал, пролезла за экран на темную сцену. За кулисами, в комнате заведующего клубом Вагайцева, еще никого не было.
Как непривычно ощущать на себе легкое, светлое платьице вместо рабочих брюк и куртки, пропыленных, в пятнах солярки.
На сцене висели черные сукна, стояли неубранные декорации: плетень, стена белой хаты с окошком, нарисованная на мешковине, и бутафорская калина с тряпочными листьями на проволочных ветках. Подув на пыльный стул, Галя застелила его платочком и села около пианино за сукном. Она слегка тронула клавишу, потом другую, третью. Возникли тихие звуки. Как жаль, что она не умеет играть! А то бы она сейчас ударила по клавишам, и зазвучало бы все, что у нее было на душе.
Сукно рядом с Галей колыхнулось, из-за него бесшумно высунулась вихрастая голова Стебля. Он осторожно положил на клавиши листок бумаги. Взяв его, Галя прочитала: «Нас троих отпустили на месяц-другой. Потом отправят в мореходное училище. Вот, брат, как может повернуться жизнь. Всегда я мечтал… Да нет, ни о чем не мечтал я. Просто хотел жить в тайге. А тут на тебе — море, океан…
Загибаюсь сейчас от зеленой скуки у дражайшего бати. К вам ехать трудно… Сам понимаешь. Мне, брат, не по себе. Сам, идиот, виноват. Душевная, брат, распущенность быстро может привести к подлости. Но все-таки на недельку я заверну к вам. Передай об этом Гале. Привет ей! Все-таки напиши о ней. Понял? Все. Точка. Жму твою лапу. Будущий капитан-пират Витька Кистенев».
Бережно возвращая вздрагивающий листок, Галя шепнула:
— Передай и от меня привет.
— А еще что? — голос Стебля прозвучал уныло.
Галя прикрыла глаза, вместо них остались две длинные, лохматые черты из ресниц. Покусала нижнюю губу, скусывая шершавинку, и наконец ответила:
— Напиши: «Помню. Помню». — И после каждого «помню» она нажимала клавишу, как бы подчеркивая звуком это слово.
В зале хлопнула дверь, раздались голоса, топот, заскрипели, затрещали стулья: начали пускать зрителей.
Послышались голоса и в комнате Вагайцева. Галя бережно закрыла крышку пианино, взяла со стула платок и пошла к Вагайцеву…
В его комнате на стенах висели балалайки, мандолины, гитары, в углу на столике лежали кисти и краски. Вагайцев сам писал плакаты и афиши.
Галя знала его историю. В юности Вагайцева, талантливого самоучку, не приняли в консерваторию. Для Вагайцева это оказалось настоящей катастрофой, и он стал пить.
Несколько лет проработал в Томской и Иркутской филармониях, гастролировал с концертными бригадами, но отовсюду его увольняли за пьянку. Он озлоблялся на людей все больше и больше. Начал работать в клубах, но и там не держался долго. И вот наконец Вагайцев, как сказал он однажды, «докатился до совхоза».
Водка и боязнь, что его примут за бездарность, сделали из него хвастуна. Вагайцев постоянно рассказывал о своих прошлых успехах на сцене, о выступлениях по радио, по телевидению, врал, что его записывали на пластинки, что его приглашали в Ленинград. Трезвый он был замкнутым, а выпив, становился болтливым.
Ребята составляли список участников агитбригады, выбирали распространителей книг в помощь Люсе Ключниковой, но все это было там, во внешнем мире, а Галя жила в своем внутреннем, где звучало: «Напиши: „Помню, помню“».
— И обязательно, девчата, принимайте заявки на книги, — распорядилась Маша. — Ключникова будет ездить за ними в город. Станем носить книги по домам, в мастерские, привозить на полевые станы.
Тамара предложила устроить диспут в клубе. Кто-то спросил: «О чем?» И Тамара ответила: «Ну, например… например, о любви и дружбе». И слегка покраснела. Шурка крикнул: «Это только для девчонок интересно!»
— При чем здесь девчонки? — серьезно и задумчиво сказала Галя. — Что мы все знаем о любви и дружбе?
Маша прищурилась, глянула на нее пронзительно.
Тут закричали:
— Конечно!
— Даешь любовь и дружбу!
— А докладчиками назначим Тамару и Шурку!