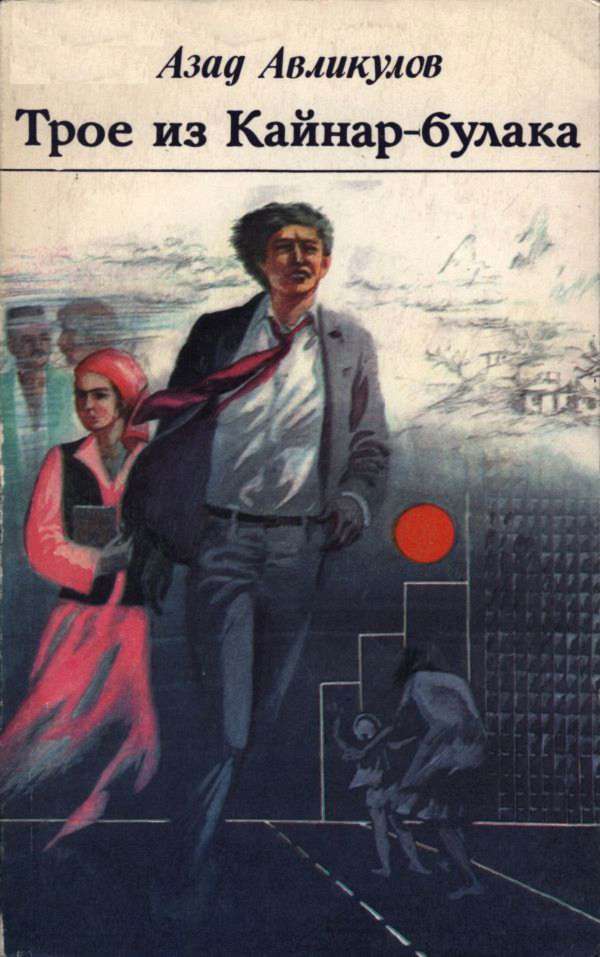— Тогда я не пойду, Миша-ака, — тихо, но твердо сказал Пулат. — В первый раз идти в дом друга с пустыми руками?!
— Он прав, Миша-ака, — сказали несколько йигитов, — не принято идти с пустыми руками.
— Но не целый же воз?!
— Это дело гостя, ака.
— Хоп, идемте…
Жена Истокина, молодая красивая женщина, встретила Пулата приветливо. Она была стройной, а две толстые русые косы заброшены за спину. Правда, по-узбекски говорила не очень хорошо, но понять ее можно было.
— Это тот самый Пулатджан, Ксюша, — сказал жене Истокин, — о котором я тебе рассказывал.
— Салам алейкум, Пулатджан. — Она подала ему руку. — Меня зовут Ксения-опа.
— Ваалейкум, — Пулат осторожно пожал ее руку. Увидев, что хозяин разувается, он тоже снял чарыки.
— Портянки не снимайте, Пулатджан, — сказала Ксения. Спросила: — Детей много?
— Сын, опа.
— Проходите, садитесь. — Усадив его за стол, продолжила: — И у нас пока один сын, Борис.
Малыш был пухленьким и беленьким. Ему было года полтора. Когда Истокин сел за стол, она отдала ему сына и принесла чай. Хозяин разлил его по пиалам, подал одну Пулату. Пока мужчины пили чай, Ксения уложила сына спать и стала собирать на стол ужин. Все в доме Истокина удивляло, восхищало и вызывало тайную зависть Пулата. В комнате чисто, земляной пол обмазан красной глиной, на стенах висят вышитые полотенца и какие-то другие красивые тряпки.
Она принесла и поставила перед гостем касу супа с капустой. Пулат попробовал это блюдо в полку, и оно ему очень понравилось. Сегодня оно одно из самых распространенных блюд кишлака и называется просто — «карам-шурпа», то есть суп с капустой. За ужином Михаил расспрашивал Пулата о делах в Бандыхане, интересовался, кто и в чем нуждается.
— Жизнь течет, как вода в арыке, — ответил Пулат, — бандыханцы посеяли яровые, у всех все есть, ака. А у меня дела идут хорошо, сами же знаете, усто всегда с хлебом.
— Это верно. Станете трактористом, хлеба этого будет очень много. Не только у вас, у всех ваших земляков. У всей страны.
После ужина Истокин вышел задать корма лошади. Он подвинул чайник к Пулату и предложил:
— Пейте чай и чувствуйте себя как дома.
— Давно уже здесь, Ксения-опа? — спросил Пулат, когда хозяин вышел.
— Порядочно, Пулатджан. Мой Миша воевал тут с басмачами. А я жила дома, в России. В Байсуне убили его брата Бориса. В честь его мы и сына назвали так.
— Война страшная штука, опа, — сказал Пулат, кивнув.
— И жестокая. Надо быть зверем, чтобы у убитого человека отрезать голову.
— Кому отрезали голову, опа? — переспросил Пулат.
— Да Мишиному брату… Ну вот, после этого он и решил остаться тут, чтобы научить людей быть людьми, чтобы помочь им.
И Пулат сразу вспомнил тот день, когда Артык приволок раненого красноармейца, издевался над ним, а затем, убив, отрезал голову. Он пытался сравнить лицо того красноармейца с лицом Истокина, напрягал память, но то, давнее, было смутным, расплывчатым, только широко раскрытые голубые глаза, так удивившие тогда всех кайнарбулакцев, отчетливо выплывали из глубин времени и стояли перед ним, живые, бесстрашные.
— А что, брат был похож на Мишу-ака? — спросил он, подумав, что дети одних родителей должны быть похожи друг на друга.
— Что вы, Пулатджан?! Борис повторил мать, у него были голубые глаза, а Миша похож на отца. У него сам бог не знает какого цвета глаза — то они зеленые, то желтые. — Ксения рассмеялась. — Бывает же такое!
«Сказать или нет?» Этот вопрос сверлил его сознание почти весь вечер. Всю жизнь, собственно. Но он не решился. В тот день он испугался гнева Истокина: мол, пригрел на груди змею. А потом, когда их дружба переросла в нечто большее, в братство, его страшила сама мысль о том, что сообщение может перечеркнуть это. Появлялась у него мыслишка и о кровной мести. «Мой брат убил брата Миши-ака, — думал он иногда, — теперь он имеет полное право лишить жизни меня… Пусть убьет, скажу!.. А что будет с Мехри? С Сиддыком? О, аллах, дай мне силы и воли промолчать, скрыть от брата страшную весть! Не пожалей милостей своих, сделай так, чтобы я не сошел с ума!..»
— Вы чего чай не пьете? — спросил вернувшийся Истокин.
— Напился я, ака, спасибо, — привстал Пулат. — Пойду.
— Я провожу…
Они шли по темным улицам города, Истокин рассказывал о тех, кто будет с ним учиться, — кузнецах, плотниках и даже одном гончаре, а Пулат все думал о превратностях судьбы, порой жестокой…
Раньше Пулат как-то не обращал внимания на время — идет себе, ну и пусть. А теперь, когда каждый день до отказа был наполнен учебой, он заметил, что оно летит быстрее, чем хочется. Мгновенье — и нет дня, еще мгновенье — года, мелькает и мелькает, как стриж. Случалось, что он по две-три недели не мог выбраться в кишлак, но родной дом, понятно, не оставлял его без внимания. Тога частенько навещал, нередко привозил в собой и Сиддыка.
И вот уже середина октября. Пулат возвращается в Бандыхан не просто одним из его дехкан, а представителем государственного учреждения — агроучастка, на новеньком тракторе «Фордзон-путиловец», первом советским тракторе. Пыльная дорога рассекла выжженную солнцем степь, а «афганцы» сдули с ее груди травы до самых корней. Изредка встречаются чахлые ржавые кусты янтака — верблюжьей колючки. Степь кажется мертвой. Но извилистый гладкий след змеи, что пересек дорогу, ящерица, юркнувшая за бугорок, мышка, роющая норку, и парящие в небе орлы, что готовы в любую секунду камнем упасть на зазевавшегося суслика, — все это свидетельства того, что тут жизнь идет своим чередом.
Но даже сознание этого не избавляет человека от того, что перед ним расстилается унылое зрелище, что оно непривычного может убить своей тоскливостью. В последний приезд домой Пулат так и думал. А теперь его переполняла радость. И от того, что над головой такое бездонное синее небо, и от того, что отроги Байсун-тау с белыми латками снегов на вершинах гор, где он родился, вырос. И, конечно, главным источником его радости было сознание собственной власти над машиной,