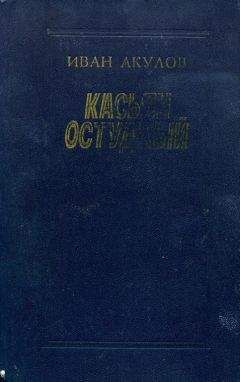— Мне это место за деньги ни к чему вовсе. Труды мои летошние пропадом пропадут, по твоему приказу, Яков Назарыч. Ты приказал учесть весь новый хлеб, и я учел. В скирдах прятался, под амбарами, в щелку тайком да всяко заглядывал. У Кадушкина на току, всем известно, чуть не изувечили, у Ржановых в омете того лучше, сам кривоглазый Мишка едва вилами не проткнул. Хлеба у всех греби — не выгребешь, а около него уж ошиваются мелкие чужие элементы. Ходит по избам такой, в барашковой шапке, о хлебе разговор заводит.
— С бритыми височками? — подхватила Валентина.
— С бритыми. Как ирбитский кучер, и шею выскреб. Ну.
— Он и есть. Перекупщик Жарков. Яков Назарыч, да ведь они опять на сторону выкачают все зерно. Опять оборышами останемся.
— Эти — выкачают, — согласился Умнов и языком лизнул подрез усов. — Хмы.
— Вдарить по ним наотмашку, — вспыхнул Егор.
— Что это значит? Говорил бы пояснее.
Егор поднялся, охищнел зубами, проношенной шапкой шлепнул по ладони, будто выстрелил.
— Перво-наперво, энтого, бретый который, сейчас же заарестовать. А вечером собрать сход и кажинному назвать пуды намолотов: у тебя столько, у тебя столько, а у тебя эстолько. И наказать строго-настрого, чтобы берегли хлеб, как матерь девку перед выданьем.
— А потом?
— Потом открыть хлебный фронт и красный обоз государству в Ирбит. И бедноте отсыпать на прожиток. Товарищ Мошкин, проезжал который, самолично мне говорил, что есть такое распоряжение.
— И я бы так же сделал, да округ молчит. Будто воды в рот набрали. Обязательные поставки требуют, дак мы и без округа знаем. С обязательными поставками мы лучше других идем. Как бы вот свободный хлеб на сторону не выпустить. К спекулянтам.
— Но округ-то, Яша, он что молчит?
— Требует спектакли народу ставить. Доклады делать против бога, ликвидируй безграмотность, говорят. Будем ждать.
— Пока ждем, спекулянты обгложут нас до костей, — опять подтвердила свои слова Валентина. — Арестовать надо этого мазурика Жаркова.
— У него мандат на руках, — вспомнил Егор. — Какой уж, не скажу, а при мандате. Голой рукой его не возьмешь.
— Не миновать ехать в город, — вздохнул Умнов. — Поеду. Борис Юрьевич Мошкин укажет, что делать. В округе тоже сидят всякие, а заготовители тоньше других понимают дело, когда речь идет о хлебе. Ты, Валентина, скажи деду Филину, пусть запрягет да в мешок овса сыпнет. Заночую. День-то с обоих концов урезало.
Когда ушла Валентина, Егор надел шапку и снова стал здесь своим, мягко заметил председателю:
— Нам бы, Яша, весь кулацкий хлеб в поповские амбары собрать. И сила в наших руках тадысь.
— Это верно, Егор. Без хлебца и кулак не кулак, и середняк не сам по себе. Обое в наших руках будут. Беднота над всеми должна взять верх. Об этом Борис Юрьевич Мошкин опять толковал, да вот молчит что-то. Пока я езжу, ты собери кого наших и наладь наблюдение. Да Валентине дай списки пофамильно, у кого какой хлеб. А то чего не хватало, потеряешь еще записи-то.
— А недолго, слушай. На прошлой неделе обронил где-то рублевку — Фроська и дала мне прикурить. Да ты ее знаешь.
Домой Егор вернулся с бумагой и химическим карандашом за ухом, загнал ребятишек на печь и, значительный, суровый, сел к столу писать списки. Мешки и меры переводил в пуды, пуды в воза. От непривычного напряжения сильно потел, и просолевшая борода ядовито свербела. Чесал подбородок, жилился, даже заметнул губу на губу.
— Квасу бы, Фрося. Мозги вот-вот вспыхнут. Не слышала? Квасу бы.
— Да ты его много наквасил?
— Сходи к матке Катерине. Сама видишь, какая работа.
— Все хлебушком живем, Егор, возле хлеба-то добром бы, полюбовно, ласочкой…
— Так они тебе и дали на добром слове. Ласочкой. Всяко было прошено.
Фроська вдруг захохотала и поднесла к лицу мужа осколок зеркала, и он увидел, что весь рот у него густо измазан химическим карандашом, — он то и дело мусолил сердечник, чтобы буквы и цифры были жирными, убедительными.
— Ребята, поглядите-ка, тятька-то у вас какой баской стал.
Ребятня посыпалась с печи, окружила отца, а он, все такой же значительный и теперь уставший, скалил перед стеклом свои низкие выкрошенные зубы.
— Пойти уж сходить тебе, — умилившись на мужа, согласилась Фроська. — Из ноги ведь выломишь. У-у, дымные твои шары.
Фроська засобиралась к Катерине Оглоблиной христарадничать, а Егор стал собирать со стола исписанные листочки.
За Мурзой начинались казенные леса, и на дороге, окруженная стожками сена, стояла изба лесника. Место глухое, в какую сторону ни кинь, до жилья само близко двадцать верст. Летом проезжие кормились на Мурзе, и редко кто привертывал к избе. Зато зимой дня не было без гостей: тут грелись, поили из колодца лошадей, а в непогодь, случалось, и оставались на ночь.
Лесник Мокеич, забородатевший до глаз, жил с женой и припадочной дочерью, которая на шишковании соскользнула с кедра и ударилась головой о колоду. За постой Мокеич брал не деньгами, а табаком, потому что был заядлый курильщик, а самосад отчего-то не родился на лесной земле.
Шел холодный проливной дождь, какие бывают в предзимье. Яков Назарыч Умнов, устоинский председатель, тяжело промок: ряднинный дождевик совсем не держал влагу, и намокла, туго садясь на плечах, кожанка. За Мурзой по лесу дорога совсем испортилась: по колдобинам сверху колес лилась вода. Лошадь заметно сдала, и хоть не унимался дождь, а конская спина густо парилась. Еще было изрядно дня, но Яков Назарыч не смог проехать мимо избы Мокеича. Подвернул.
Без спроса хозяина отворил большие ворота, въехал, не убрав подворотни. На крыльцо вышел Мокеич, с сухой, теплой бородой, в смазанных сапогах — весь домашний, и, глядя на него, Умнов острей почувствовал сырой холод и захотел горячих наваристых щей из прожиревшего горшка, какой непременно стоит у загнетки в лесниковой печи.
— Что за нужда в непогодье? — спросил Мокеич и турнул с крыльца рослого щенка, который вертелся у ног хозяина и натащил грязи на своих толстых лапах.
— Здорово, старик. Заночую у тебя.
— Места хватит.
— От гостей-то небось отбою нет. Элементы всякие шастают, а у тебя всякому изба отперта.
— Да ведь тепло ковшом не черпают. Все едут.
Яков распряг лошадь, привязал к ходку, мешок с овсом, чтобы не порвала, убрал: вот охлынет немного, тогда уж и напоит и корму задаст.
В избе было жарко натоплено и пахло свежими лыками. Слева от дверей, у окна, стоял стан, и жена Мокеича в новом фартуке ткала половик. Дочь, с толстыми косами, уложенными вокруг головы, пряла пряжу веретеном. Умнов сел на лавку у печи и сразу почувствовал, как затяжелели, наливаясь, веки, и все: и хозяйка за станом, и девка с веретеном, и глухариные крылья рядом с ружьем на стене, и стол, засыпанный сушеной черемухой — все заволоклось и поплыло, а, уплывая, совсем не заботило.
— Куревом, Яков Назарыч, не богат ли? — спросил хозяин, варивший дратву на кухне.
— Не курю, старик.
— Экая редкость промеж нас, темного народа. А я думаю, у Якова товару всякого. Разбежался — нате вам. — Мокеич рассмеялся над собой.
Девка встала и с прялкой ушла в горницу, закрыв за собою дверь. Хозяйка стучала тяжелым бердом так сильно, что в рамах вздрагивали стекла. Слышно было, как Мокеич куском вара сновал по дратве и дратва гудела басовой струной.
У Якова от сырой холодной кожанки мерзли плечи и крыльца, но он боялся, что, усыхая, она совсем сядет, не снимал ее. Чтобы размяться, стал ходить по избе, как привык это делать в своем кабинете. Только в Совете он был хозяин, а здесь на него даже не обращают внимания: пустили как мокрого пса, и грейся, тепло ковшом не вычерпаешь.
В своем селе Умнов знал всех и, заходя в избы мужиков, у бедных был за родного, иногда даже распоряжался, богатые сами приглашали, потчевали и заискивали. А кто этот Мокеич, бедняк или кулак? На бедняка не походит, потому сама в очках, в новом фартуке и малиновый платок не по-старушечьи повязан — узлом сзади. На стене ружье, зеркало, рамка с фотографиями, а к толстой лавке привинчен сепаратор, своя сметана, свое масло. На входных дверях цветы нарисованы и какая-то птица с небольшим распахнутым клювом, петух не петух, а хвост гнутый и цветной, петушиный.
«Живет — сам себе хозяин, — отчего-то ожесточаясь, думал Умнов. — Вишь ты, князь, да и только. Своя сметана, свое масло. Ягоды, грибы под боком. Рыбная Мурза тут же. Орехи кедровые. Убоина, надо быть, не выводится: дичина под каждым кустом ходит. Пальни — и в горшок. Петухов намалевал с сытого-то брюха. А нет чтобы из своих даровых несметных запасов предложить чашку щей проезжему», — совсем озлобился Яков и стал придираться:
— Старик, нащелкал нынче дичи-то? Сохатых небось валишь, а мясцо в город. Один разве приешь.