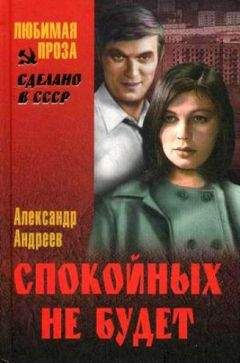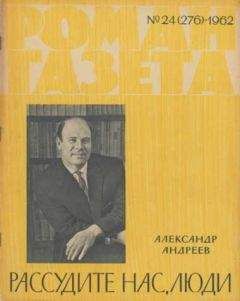— Слабостями других ты, Филя, пользуешься в своих корыстных, подлых целях,— сказал я.— Выходит, ты подлец. Имей в виду, даром тебе все это не пройдет.
Сорокин вскочил, глаза блудливо заметались.
— Что ты мне все грозишь? Плевал я на твои угрозы! Кишка у тебя тонка тягаться со мной.
Он, не оглянувшись, ушел к Сереге Климову. Тот, делая вид, будто работает, чутко наблюдал за нами. Сорокин и Серега, о чем-то переговариваясь, скрылись за срубом.
И все шло по-прежнему: прогулы, опоздания, невыполнение заданий, пьянки и скандалы в общежитии. Надо было что-то предпринимать. В самом срочном порядке.
И вот сегодня в обеденный перерыв я собрал бригаду. Пригласили на собрание ребят Трифона Будорагина. Обещал подойти Петр. Мы сидели на берегу, на брусьях, больше пятидесяти человек, и ждали Сорокина. Я послал за ним Леню Аксенова. Леня вернулся один, Сорокин сказал, что плевал на наше собрание с высокого берега. Ребята потребовали привести его силой. Вызвались Илья Дурасов, Вася и Леня Аксенов. Вскоре они показались из-за ряжей. Они заломили Сорокину руки назад и толкали его впереди себя. Тот, упираясь, пытался отбиваться, кричал и плевался. Его подвели к нам и усадили на брус.
— Вы не строители, а бандюги! — кричал он, намереваясь вскочить.— Комсомольцы, называется! Какое вы имеете право? Хулиганье! Что я сделал, чтобы мне руки заламывать?
Трифон глядел на него с отвращением.
— Замолчи! А то вобью в землю по самые уши. Откуда взялся только такой микроб?..
Сорокин метнул на меня скользящий и презрительный взгляд.
— Что вы от меня хотите, бригадир? Я вам не подопытный кролик...
«Судья» Вася ответил:
— Судить будем.
За Сорокина вступился Серега Климов:
— Не за что его судить. Не имеем права!
— Ха, Защитник выискался, адвокат! — Илья сокрушенно покачал круглой головой.— Что делается с людьми, товарищи!.. Садись и ты на скамейку, обсудим и тебя заодно с твоим новым дружком.
— Суть не в том, дружок он мне или нет,— сказал Серега.— А в том, что он работает не хуже каждого из нас. Даже лучше. Человек как личность определяется в труде.
Ребята заулыбались.
— Ну и личность! — воскликнул Вася, указав на Сорокина,—Завлекательная чересчур. Отворотясь не наглядишься !
Попросил слова Виктор Ненаглядов. Он одернул гимнастерку, приосанился.
— Мы, товарищи, разбираем дело члена нашей бригады,— сказал он не торопясь, веско, ничуть не смущаясь.
В это время подошел Петр Гордиенко, сел рядом с Трифоном и кивнул Виктору, прося извинения.
Виктор Ненаглядов, обращаясь ко мне, спросил с едва заметным раздражением (прервали речь):
— Я могу говорить?
— Да, да. Тише, товарищи!
— Мы разбираем дело члена нашей бригады,—повторил он,— И к этому надо отнестись со всей серьезностью. Надо обсудить все «про» и «контры» и вынести наиболее правильное постановление, пускай даже в ущерб одному человеку или двум; но на пользу коллективу.
— Что ты знаешь о коллективе-то? — крикнул Сорокин.— Ты в нем без году неделю! А туда же...
Виктор не смутился.
— Это не имеет значения. Коллектив, как живой организм, должен быть здоровым независимо от того, есть в нем я или ты или нас нет.
«Поднаторел,— подумал я про Виктора.—Этот не собьется на безрассудства. Не закричит от возмущения».
— Я живу с Сорокиным в одной комнате, и, по моим наблюдениям, он к жизни в коллективе не подходит.
Ровный, бесстрастный голос Виктора Ненаглядова, его складная, словно по газете прочитанная, речь вызвали у ребят настороженность, даже неприязнь.
— Мы и без твоих наблюдений видим, что Сорокин нам не подходит,— сказал Илья.— Поэтому и собрались.
— Я прошу не перебивать. Когда тебе предоставят слово — говори, а пока помолчи, других послушай.— Ненаглядов обвел собравшихся спокойным взглядом.— Если подумать серьезно, товарищи, то коллектив сильнее одного человека, и он может этого человека, в данном конкретном случае Сорокина, перевоспитать, направить по верному пути, поставить на ноги.
— У нас не исправительная колония, а рабочая бригада,— сказал Трифон хмуро.
Вася крикнул:
— Не виляй, Ненаглядов! То Сорокин не подходит к жизни в коллективе, то призываешь нянчиться с ним. Выбери что-нибудь одно!
Глеб Анохин поднял руку.
— Ненаглядов правильно заключил, мужики: надо Филю поставить на ноги. Работник-то он золотой.
— Он гад! — крикнул Илья.— Ужом вполз в бригаду, а теперь, как ржавчина, разъедает ее. Не выйдет! Требую исключить его из бригады! Немедленно!
Сорокин встал и заявил:
— Исключайте. Не пожалею. Мне и самому тошно с вами. Тоже мне работники! Топора в руках держать не умеют.— Он перешагнул через брус.— Прощайте!
Я задержал его.
— Погоди, это еще не все.
— Можно мне сказать? — спросила Катя и поглядела на меня, побледнев от волнения.
— Говори, Катя.
— Мы уберем Сорокина из нашей бригады... Сделаем это вовремя. Но он устроится в другую бригаду. А те ребята окажутся не такими стойкими, как наши. Тогда что?.. Его надо изгнать со стройки совсем.
— Правильно, Катя!
— Он же перед тобой извинился за те слова,— сказал ей Серега Климов.— Что же ты еще хочешь?
Петр Гордиенко, подняв руку, дождался тишины.
— Предложение Кати Проталиной считаю вполне резонным и обоснованным. Полумерами мы ничего не добьемся. Лишь потеряем свое значение и свою силу. Я поговорю с Ручьевым. Думаю, он пойдет нам навстречу.
Филипп Сорокин тихо сел на брус, глаза его расширились от растерянности.
— Вы не имеете права,— прошептал он.— Я прибыл сюда издалека. Меня завербовали...
— Как приехал, так и уедешь!
Серега Климов выметнулся в круг.
— Если вы так сделаете,— заявил он,— то со стройки уеду и я. Так и знайте.
— Можешь уезжать,— сказал Петр.— Хоть сейчас.
ЖЕНЯ. Самолет, задрожав, сорвался с места и помчался по бетонной дорожке, все более разгоняясь. В конце полотна он отстал от земли и с воем начал взбираться по невидимому крутому подъему. Мимо протекли сизые и мокрые клочья тумана, и вскоре по глазам ударило солнце. Внизу несметными овечьими стадами мирно паслись белые облака.
Эльвира Защаблина непоседливо вертелась в кресле. Заглядывая в круглое окошечко, с неостывающим возбуждением тормошила меня:
— Ты только взгляни, Женя! Вот бы выйти сейчас и шагать, шагать без устали на край света! По мягкому белому ковру. Босиком!
Я не отвечала ей, опрокинулась на спинку кресла и зажмурилась. Самолет нес меня на своих крыльях к Алеше, с каждой минутой приближая меня к нему. Я пыталась представить нашу встречу. Я стремилась к этой встрече и побаивалась ее. Какой он теперь, Алеша? А вдруг изменился, огрубел, сделался чужим; может быть, у него уже есть девушка. Мужчины, говорят, тяжелей переносят разлуку и одиночество. Мне надо быть очень стойкой и решительной, чтобы убедить его: жить врозь больше невозможно. Или вместе, или развязать друг другу руки. Да, так и заявлю: развязать руки... И я уже видела, как мы летим обратно. Домой. Вдвоем!
— Чему ты улыбаешься? — Аркадии Растворов, склонившись, коснулся бородой моего лба; глаза его обеспокоенно светились, изжеванная сигарета кочевала из одного угла рта в другой.
— Приснилось смешное,— ответила я.
— Счастливая ты,— сказал Аркадий.— Забавные сны видишь. Они снились мне только в детстве — просыпался от смеха. Теперь мои сны — сплошной кошмар... Или за мной кто-то гонится, или я за кем-то гонюсь. С ножом...— Он отстегнул ремни на Эльвире.— Посиди на моем месте. С Вадимом.
Эльвира, немного побаиваясь Аркадия, поспешно уступила ему кресло, и через минуту в задних рядах послышались всполошенные всплески ее голоса:
— Глядите, ребята, какое все крохотное! Дома как игрушки. Вадим! Ой, голова кружится!
Облака рассеялись, и теперь виднелась земля — зеленая, вся в лесах. Яркой узкой лентой сверкала на солнце полоса, реки. Словно горсть орехов, раскинулась деревушка на ее берегах. Я сказала Аркадию:
— Все ты преувеличиваешь. И бежишь ты сам от себя и гонишься сам за собой. Играешь какую-то трагическую роль. Ты полюбил эту роль и не можешь расстаться с ней. Вот и вся разгадка...
— Ошибаешься, Женя,— возразил Аркадий с искренней печалью.— Если бы роль... Я в жизни сыграл их немало. Это легко — сыграл и забыл. Тут другое. Живу весь униженный, опозоренный, точно неполноценный какой-то. Взяла и отшвырнула с дороги, с презрением, носком туфли. А когда-то поклонялась мне, благоговела...
— Зато у тебя не то что благоговения — элементарного внимания к ней не было. Одни окрики, да косые взгляды, да угрозы. Как она вообще могла терпеть тебя, первая-то красавица, с характером!
— Я был свиньей,—сознался Аркадий.— Теперь убедился в этом. А тогда я был убежден, что из-под моей власти никто не в силах выйти. Ошибся. Преувеличил свои возможности. И это приводит меня в бешенство. Задыхаюсь от ярости, Женька! Сладить с собой не могу.